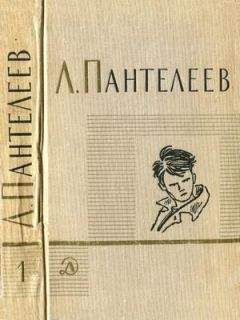. . . . .
Хорошо сказала одна девушка-партизанка про немцев:
— Вы сами принесли свои кости на русскую землю…
. . . . .
В поезде «Москва — Ленинград».
Проводник-мужчина идет коридором, уютным каким-то голосом возглашает:
— Чаевничать никто не будет?
— Я буду.
— А вы где живете?
И стало еще уютнее.
. . . . .
В соседнем купе трехлетняя девочка читает стихи — совсем как Рина Зеленая.
. . . . .
Рассказывает пожилой капитан:
— Девушка была замечательная. Причем Лидия Михайловна звали…
. . . . .
В тамбуре. Стоят, курят демобилизованные. Оживленно обсуждают достоинства и недостатки европейских столиц.
— Нет, мне все-таки Вена больше нравится.
— А, брось ты. А чем Москва хуже?
— Кто говорит хуже?
— Вот Прага — так это городок!
— В Будапеште метро хорошее.
— А набережные в Вене — на Дунае — разве это набережные? У нас, в Ленинграде, Фонтанка и та лучше оборудована. А там — течет себе как речка в деревне.
. . . . .
Едет маленький худенький сорокалетний сержант с моложавым болезненным лицом. Четыре года на фронте. Прошел от Старой Руссы до «города Вена на Дунае». А в Ленинграде, куда он возвращается, — ни дома, ни семьи. Жена и четырехлетняя дочь погибли в 1942 году (дочка «росла на шоколаде, а умерла с голоду»). Дом на Охте сгорел. И вот едет — «счастья искать»…
. . . . .
Старший сержант. 1905 года рождения. Артиллерист. Был контужен осенью 1941 года под Старой Руссой. В пяти метрах от него упала бомба, его отбросило на 25 метров в сторону, ударило головой о дерево. Потерял сознание, лежал четыре месяца в госпитале. Говорить не мог. Рука дергалась. «Ничто не болит, а все-таки дергается». «Самое скверное — память. Память стала никудышная. Забывал самые простые вещи. Обедать иду — пилотку забуду надеть. Задание получил — повторю его, как положено по уставу, а отойду на пятьдесят шагов и — забыл. А один раз прихожу к командиру дивизиона: „Товарищ капитан, красноармеец…“ — и, представьте себе, забыл собственную фамилию»…
— Пока в наступление шли — получше было. А как в Вену пришли и дальше уж некуда — опять началось.
— Как же лечили вас?
— Капли — не знаю, какие-то — в ухо пускали. Руку мазью растирали. А речь как-то сама вернулась.
. . . . .
Он же:
— Жена встретила — первое дело: «Из Вены привез чего-нибудь?» — «Нет, ничего не привез».
. . . . .
Как это сказано у Достоевского, что русские — «люди весьма непрочной ненависти».
. . . . .
В больнице.
— Бабушка, вы мокроту не глотайте. Вы — в баночку.
— Ну, что ж. Буду. Послушание поче поста и молитвы.
. . . . .
Ленинград.
Сижу на лестнице, жду Лялю. Маленький мальчик кричит с лестницы в окно — во двор, старшему брату:
— Вовка, иди домой!
— Зачем?
— Бабушка зовет!
— Не пойду.
— А мы ЧЕГО-ТО банку с бабушкой открыли.
— Ладно, иду! Не ешьте!
. . . . .
Джамиль Мордам-бей.
. . . . .
— Мальчики — милитаристы со дня рождения и чаще всего до дня призыва на действительную службу.
. . . . .
Старик — мальчику:
— Шмотри у меня — по заднишке получишь.
. . . . .
«Небее неба славянская девушка».
Вел. Хлебников
. . . . .
«Влада худесников и неимеев, бедесников трудоты».
«Неимеи всех длин, соединяйтесь!»
Он же
. . . . .
У него же — эмигранты:
«Самогнанцы в даль, в чужбу»…
. . . . .
— Какой сегодня фильм?
— «Путешествие таракана вокруг стакана».
. . . . .
Меня крестили в Троицком Измайловском соборе — там, где венчался с Анной Григорьевной Ф. М. Достоевский.
. . . . .
В деревнях Ленинградской области немцы платили 400 граммов «натурального печеного хлеба» за каждый донос на партизан.
. . . . .
«Катя».
Рахмановы торговали мешками — старыми и новыми — в Калашниковских складах. Клим Федотович ходил поэтому всегда в сером пальто.
Некто сказочно разбогател на торговле старыми мучными мешками (на мучной трухе).
. . . . .
«Катя».
Осьминкин держал мелочную лавку и ренсковый погреб на Фонтанке у Египетского моста. Кроме того, у него было пять или шесть лавок на отчете, то есть таких, где хозяйничали приказчики, отчитываясь перед ним ежемесячно. В лавке пекли пироги. Покупали их главным образом катали с барок, которые стояли в те времена на Фонтанке в два ряда. Барки — с камнем, тесом, дровами (для Экспедиции заготовления государственных бумаг).
Дочь Осьминкина Паша-лавочница. Катя с ней одно время дружила. Чем-то были похожи.
. . . . .
Ваня любил ходить в лавку к Осьминкину — месить квашню.
. . . . .
Имели булочную. Сами не пекли, а торговали скупным товаром, то есть покупали булки у других. Торговали еще кофеем. Жарили и мололи. Большие стеклянные банки. В лавке дурманящий запах кофе и венской сдобы.
. . . . .
Толстая собачка — словно кашей начинена.
. . . . .
Пропал, как немец под Сталинградом.
. . . . .
Детский дом в эвакуации. Девочки достали картошку, сварили. Ищут соль.
— Соли нема!
— Вот соль. Нашла! Только «английская» написано.
— Нехай английская. Давай ее сюда.
. . . . .
Тетя Тэна угощает:
— Съешь бараночку.
— Нет, благодарю, тетя Тэна, сыт.
— Съешь! Перед сном полезно. А то цыгане приснятся, как говорят.
. . . . .
Из рассказов тети Тэны.
Нянька Елизавета приходит:
— Дети, дети. Говорят, у нас наследника мешочком ударили! (Это про будущего Николая Второго.)
. . . . .
Из рассказов тети Тэны.
У Муравлевых, к которым она в детстве ездила гостить, пол был выкрашен под паркет, а середина его — под ковер.
Мыли пол квасом.
. . . . .
Тетя Тэна:
— Был у нас знакомый Пушкин. Так его даже не хотелось называть Пушкиным.
. . . . .
— Платье у нее такого цвета, как на другой день кисель бывает.
. . . . .
Эпиграф к «Кате».
«Ох, времени тому!»
Протопоп Аввакум
(Тетя Тэна, старообрядка, произносит: Аввакум.)
. . . . .
Покойный Василий Васильевич однажды сказал:
— Эх, на мои бы плечи да голову Фирс Иваныча.
Фирс Иванович — его компаньон по колбасному делу.
Плечи у Василия Васильевича были, действительно, хороши.
. . . . .
— Пока вы ездили загорать на Южный берег Крыма, моим пристанищем был южный берег Обводного канала.
. . . . .
Волково кладбище. Жестяной самодельный крестик. Дощечка со стихами:
Тихо, деревья, не шумите,
Мово Пашу не будите
Под зеленым бугорком
Спи, родной мой, вечным сном!
. . . . .
Рассказывала тетя Тэна.
В молодости был у них домашний врач — доктор Струпов. Он почему-то прописал тете Тэне есть горох и студень.
— Он вообще был странный доктор. Любил гладить больных по рукам.
— Небось только женщин, тетя Тэночка, и только хорошеньких?
— Да ну тебя! А впрочем — да, Михаила Иваныча он не гладил.
. . . . .
Вечером на улице Каляева. Стриженый мальчик, влюбленный конечно, проводил до подъезда двух девушек. Попрощался, пошел, оглянулся:
— Ляля!
Вернулся, сказал что-то, опять пожал руки и — пошел покачиваясь, радостный и счастливый до того, что завидно было смотреть.
. . . . .
На Охте. Трогательная надпись — большими черными каракулями по забору:
«Мы отстояли наш Ленинград — и мы его восстановим».
. . . . .
Столяр:
— Неужто у вас в доме одни писатели живут?
— Да, одни писатели.
— Гм.
— А что вас удивляет?
— Да вот — не могу, вы знаете, представить дом, где бы, скажем, одни столяры жили.
Как точно этот человек выразил мое отвращение к жизни в «обойме», в «папиросной пачке».
. . . . .
«Катя».
Бабушка о Ване:
— Сколько ему бедному перестрадать пришлось. И с Аркадием, с отчимом, нелегко ему, разумеется, было. А уж как я огорчалась, когда он в военные уходил. Аркадий говорит: «Не тужи. Все равно вернется». И ведь так и случилось: вернулся.
Говорит об этом бабушка, как о большом счастии и о победе. Вероятно, ей и в голову не пришло и сейчас не приходит, что для Вани это была трагедия: возвращение к старому быту, к торговле дровами и «чистым лесом».
. . . . .
В поезде:
— У нас в поселке народу нынче!.. Три сеанса в клубе, и то не помещаются.
Киносеанс как мера объема.
. . . . .
И в Ленинграде и в Москве говорят на русском языке. Но в Ленинграде у нас говорят «вставочка», а в Москве — «ручка». В Ленинграде выходят из трамвая, в Москве сходят (соответственно вылазят и слазят). В Ленинграде говорят сегодня, в Москве говорят, бывает, и так, но чаще нынче. В Ленинграде девочки скачут через скакалку, в Москве прыгают через прыгалку. В Ленинграде — прятки, в Москве — пряталки. В Ленинграде ошибки в тетрадях стирают резинкой, в Москве — ластиком… Список мог бы продолжить. У нас, например, проходные дворы, в Москве — пролетные.