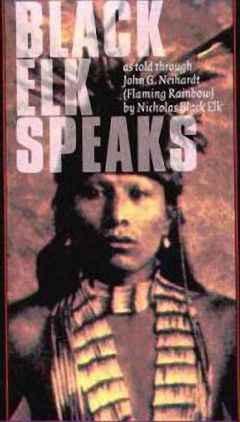Люба качнула головой:
— Ну и дела у вас! Как говорят, нарочно не придумаешь.
Что она могла посоветовать?
Таня нетерпеливо ерзнула на кушетке.
— Что же вы молчите, Любовь Николаевна? До каких пор мы будем терпеть гадкую славу о Лебяжьем ради какого-то Славы?!
— А почему вы, собственно, пришли ко мне с такими претензиями?
Парень и девушка переглянулись: действительно, почему?
— Ну... вы старше, в конце концов, опытнее... Были же у вас в институте такие, как Острецов, разоблачали же вы их!..
— Не было у нас в институте таких. Вообще я таких еще не встречала... Давайте-ка поговорим обо всем этом на комсомольском собрании, а? Покажем Владиславу его настоящую изнанку, пусть знает, что мы ее видим. Вот вернется с областной конференции...
Генка сердито отвернулся.
— Кто же нам позволит обсуждать делегата будущего комсомольского съезда? — протянул он скептически.
Таня вскочила, впилась в Генку глазами.
— Как это — не позволят?! Да разве ему место на съезде?!
А Люба вдруг засомневалась: нужно ли заводить на собрании такой щекотливый разговор? Выступит на нем Генка — всем понятна его цель: защитить отчима. Выступит Таня — тоже ясно: Генкина любовь. Поднимется Люба — опять же причина прозрачна: мстит за критику, за карикатуру в газете. Вот ведь как ловко получается у Острецова! Как ни возьми — все равно вывернется, все равно его верх. Так-то у него и строится всегда критика, потому и «признают» ее, потому и «прав» он. Значит, нужно молчать? Ради собственного покоя? А будет ли покой? Для Острецова, пожалуй, ничего нет святого, для него нет моральных принципов. Выходит, если ты на него не так посмотрел — жди «выявления» своих недостатков. Почему он на Любу ополчился? Потому что после той лекции о вреде знахарства она сказала ему: такие лекции только для отчетов хороши, для «галочки». Не так их, мол, надо готовить и не так проводить. Вот он и показал, как надо!..
Генка и Таня продолжали спорить между собой. Любе показалось, что они отмахнулись от нее, заметив ее пассивность. А ведь эта пылкая рыжеволосая девчонка, по-видимому, права: до каких пор они должны терпеть и бояться Острецова?! И кто за них постоит, если не они сами!..
Люба набрала воздуху в грудь, словно собираясь окунуться, шумно выдохнула:
— Попробуем! Начнем с собрания...
Стукнула дверь в коридоре, стукнула в прихожей, впустив облако морозного пара. Продолжая стрекотать электробритвой, Черевичный повернулся к входу. Вошел Острецов, весь в снежинках, как в гусином пуху. На улице повалил снег. Владислав улыбнулся, узнав Черевичного, а потом на мгновение смешался: секретарь райкома брился. В следующую секунду Владислав торопливо снял перчатку:
— Здравствуйте, Алексей Тарасович! Очень рад вас видеть... Благополучно ли доехали?
— Спасибо! — Черевичный переложил электробритву из правой ладони в левую, пожал протянутую руку. — Присаживайся. А я вот... Зарос, пока ездил по колхозам.
Черевичный был в толстом свитере, в зеленых диагоналевых галифе и в белых растоптанных валенках. Он еще раза два провел бритвой по подбородку и выдернул вилку из розетки. И в комнате установилась тишина. Пока Черевичный укладывал в саквояж бритву, Острецов настороженно приглядывался к его крупному лицу, стараясь отгадать, зачем он приехал и зачем вызвал. Но, кроме усталости, ничего не мог прочитать на свежевыбритом лице с глубокой морщинкой через весь лоб. Он понимал Черевичного: нелегко руководить большим глубинным районом. Район много лет был отстающим и только в последние два-три года стал выходить в средние. А нынешняя зима обещала быть тяжелой: не хватало кормов для скота, и ремонт сельхозтехники, судя по областной сводке, еле-еле укладывался в график.
Что-то в Лебяжьем неладно, если Черевичный нагрянул вдруг в колхоз. Владислав час назад приехал из города с областной конференции. Только разделся дома, как пришла посыльная из правления: Черевичный вызывает! Черевичный молчал, лишь изредка изучающе взглядывал на гостя. Может быть, секретарь райкома прознал о выходке Григория Карнаухова, увезшего чужую жену, жену главного ветспециалиста района? Узнал и решил спросить с Острецова: как же ты, мол, допустил такое? Нет, ради этого Черевичный не завернул бы в Лебяжий! Было у него что-то более важное.
— Ну, как живешь, Острецов? — спросил Черевичный, садясь за стол и разминая папиросу. Протянул пачку «Беломора» Владиславу.
— Спасибо, не курю.
Черевичный лукаво сощурил карий глаз:
— Молодец. И не начинай. — Затянулся. — Мы вот думаем тебя в секретари лебяжинскои парторганизации рекомендовать. Переведем из кандидатов в члены партии да и порекомендуем. Когда срок-то истекает?
— Через месяц. — Владислав опустил глаза. — Хозяйство трудное, не потяну.
— А Жукалин тянет?
— У него — опыт, стаж. Только болеет, правда, частенько. И сейчас вот гриппует. Да и вообще не решаюсь сказать, кто здесь потянет. Очень народ тяжелый.
— Однако ж, работают лебяжинцы неплохо.
— А каких сил эта работа стоит партийному бюро и комсомольцам! — воскликнул Владислав и даже приподнялся с места.
— На то мы и партийцы, хлопче.
— На что Азовсков... коммунист, а... сколько с ним...
— Я приехал вас мирить. Наказали мы его, а он в обком поехал. Велено пересмотреть. Говорят, здесь что-то не так.
— Им, наверно, виднее. — В ответе Владислава звучала неприкрытая ирония.
Снова одна за другой хлопнули двери. Слышно было, как в прихожей, откашливаясь, кто-то обстукивает валенки. Острецов и Черевичный переглянулись: он!
Переступив порог, Фокей Нилыч Азовсков никому не подал руки, только кивнул и начал засовывать варежки в карман полушубка. Косо, из-под вздернутой брови повел на Черевичного глазом:
— Звали?
— Звал. Как съездилось в город? Здоровье как?
— Что ты, Алексей Тарасыч, издалека, с задов заходишь? — Азовсков, шурша промерзшим полушубком, опустился на стул. — Говори напрямки.
Черевичный вспомнил глуховатый, простуженный голос секретаря обкома в телефонной трубке: «Разберитесь объективно. Заслуженный человек, ветеран войны, зачем же — под крылья сразу...» А уже разбирались, уже увещевали, уже наказывали, хотя и строго, но объективно, доброжелательно. Вместо того, чтобы успокоиться, осознать ошибки, он к вам, в обком, поехал. А теперь вот лишь из-за него пришлось крюк почти в сто верст делать.
— Напрямки, говоришь, Фокей Нилыч? — Черевичный подошел к окну, словно в черном стекле хотел увидеть свое отражение. Увидел только силуэт широкоплечего, по-юношески подтянутого человека да залысины над лбом. Обернулся к Азовскову. — Скажу напрямки. Ну, чего тебе не хватает, дорогой Фокей Нилыч? Тебе мало выговора?
— Выговор не по адресу попал. Сдается мне, выговор вот ему полагается, — качнул Азовсков головой в сторону Острецова.
— Значит ты, дорогуша мой, ты, Фокей Нилыч, остаешься на прежних позициях? Значит, ты против линии партии на развитие критики и самокритики?
Азовсков отвернулся от Черевичного. Снял шапку, погладил бритый череп.
— Не знаю, секретарь, как насчет линии, ты грамотнее меня; у тебя я и значок университетский видал... Только, сдается мне, линию партии ты подменяешь линией эдаких острозубых, как вот он, Владислав преподобный...
Черевичный шагнул к ним.
— Давайте забудем, что было. Забудем! Протяните друг другу руки — и квиты. Вам вместе жить, вместе работать. Одно общее дело у всех у нас, и не стоит нам один другому кровь портить. Ведь на мелочи, дорогуши мои, размениваемся, на мелочи! Помиритесь — и все!
Владислав встал, дружелюбно взглянул на Азовскова:
— Я — охотно. Я никогда не желал зла Фокею Нилычу.
Азовсков тяжело поднялся, натянул на большую бритую голову шапку и стал вытаскивать из карманов вязаные варежки. Вздохнул:
— Ни черта вы меня, сдается, не поняли! Ровно я об себе пекусь, ровно, моя думка — о личной шкуре.
Не попрощавшись, ушел своей неторопливой походкой.
— До чего трудный человек! — в сердцах сказал Черевичный и, глядя на Острецова, снял с вешалки полушубок. — Попробуй такого бодливого перевоспитать. Вижу, хлопот он нам еще подкинет.
— Алексей Тарасович, может, ко мне на чашку чая?
— Чаю? Неплохо бы! Впрочем, через час дома буду. Спасибо. Ты не падай духом, Острецов. Поддержим! — Черевичный поискал в карманах ключ зажигания от машины, успокоился: — Думал, выронил в снег... Да, слушай, Острецов, что у тебя тут за история с комсомольцем Карнауховым?
«Все-таки и до него дошло! — мысленно чертыхнулся Владислав, чувствуя, что на лбу выступила испарина. — Наверное, Динкин муж пожаловался».
Владислав сказал, что Григория Карнаухова они завтра же разберут на комсомольском комитете, заставят навести порядок в быту. О результатах он, Владислав, сразу же позвонит товарищу Черевичному.