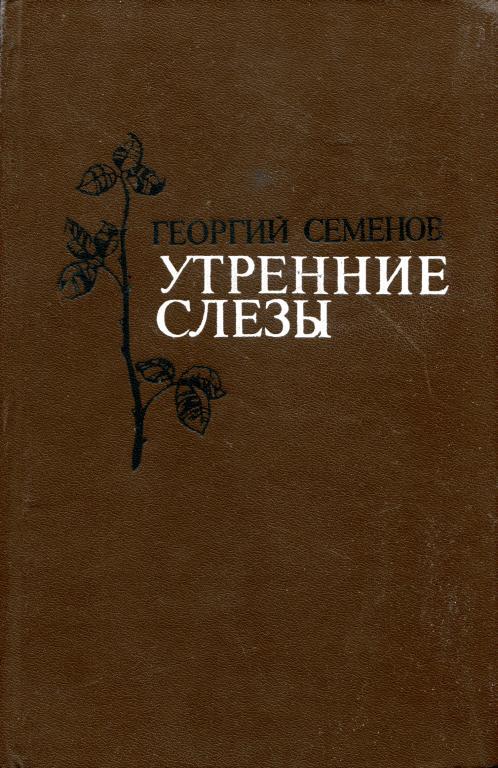старости! Как болела у него душа, когда он решился наконец-то сказать об этих своих догадках Марии Сергеевне, упрекнуть ее в жестокости и хитрости! Он в эти минуты чувствовал себя так, будто отдавал этой бессердечной женщине, окруженной женихами, уже принадлежащую ему дачу.
— Нехорошо, мадам! — говорил он, покашливая от волнения. — Старая женщина, а все туда же — замуж хочет. Вы бы о дочери своей позаботились, а о себе-то уже и позабыть пора. Мы с вами, мадам, свое взяли — кто больше, кто меньше. А ей-то жить да жить. Нехорошо, мадам… А мне, старому дураку, поделом. Раскис, размечтался, как последний дурак…
А Мария Сергеевна смотрела на него прозрачными, орлиными глазами и, гневно хмуря брови, бледная и страшная, в своих огромных валенках и в синих штанах — чучело какое-то, а не женщина, Мария Сергеевна изумленно восклицала, всплескивая руками:
— Какой нахал! Какой нахал! Како-ой нахал! Какой нахал!
— Генерала мне жаль! Вот кого жаль — так это да! — говорил Рогов, распалясь. — До невозможности жаль! Как будто он мне брат какой… Будто и его вы тоже обманули, мадам. Запятнали память, мадам!
— Какой нахал! Боже! Подите прочь!
— Да уж будьте уверены. Я ведь, честно-то если сказать, не на вас позарился, нет, не на вас, красавица, а на вашу дачу… Тут, думаю, прихвачу-ка я себе эту виллу! Была мыслишка такая… Вы, мадам, учтите, женихи ваши тоже, как и я, думают — на кой черт им эдакая развалина!
— Подите прочь, негодяй! — закричала Мария Сергеевна и зашаталась, схватившись за сердце.
И только тогда Рогов ушел, не оглянувшись, что там — упала она или устояла. После этого разговорчика его долго мучила совесть — он с женами своими легче расставался, чем с этой старухой, которая на четыре года была старше его. А совесть мучила потому, что он себя подлецом тоже почувствовал и очень не нравился сам себе. Так не нравился, что хоть волком вой.
— Старый я стал, — жаловался он Люсе. — И никому не нужный. Нравился когда-то женщинам, Люсенька, а теперь даже старая карга беззубая от меня нос воротит.
— Какой же вы старый? — говорила ему Люся с задумчивой улыбкой. — Вы еще хоть куда, Анатолий Васильевич.
— Да не выдумывай ты, Люська, добрая твоя душа! Я, бывало, намечу себе объект и, если всерьез приударю, всегда в дамки выходил. Не знал поражений, даже слова такого не хотел знать. Суворов! А тут волочился, волочился, ухаживал и так и эдак за одной дамочкой преклонных лет, а она мной как хотела, так и вертела, дураком.
— Ну и дура, значит, — говорила Люся.
— Нет, солнышко, она не дура. Она меня в дураках оставила, вот что я тебе скажу.
Он подозрительно часто стал возвращаться к разговору об этой дамочке, и Люся даже решила, что Рогов влюбился на старости лет. Ей неприятно это было сознавать, но она не показывала вида и успокаивала, как умела, Рогова. Лишь однажды она сорвалась и сказала ему:
— Вы что же думаете, я железная? Мне все можно рассказывать? Да я же!.. — но она не договорила, оборвала себя на слове, хотя восклицание это «да я же!» прозвучало с такой болью и страданием, что можно было предположить все что угодно.
Рогов, услышав это, зажмурился, как от удара, сморщился весь, закрыл руками лицо и долго так сидел в тоскливом забытьи. А потом позвал Люсю, велел закрыть дверь на ключ и спросил, с трудом выговаривая слова, как человек, перенесший инсульт.
— Ты меня когда-нибудь любила?
— Я и теперь люблю, — ответила Люся.
— Нет, я спрашиваю о той любви, о настоящей. Прости меня, грешного.
— Не знаю, какая уж она, настоящая или нет… Ничего я вам больше не скажу.
— Дай мне твою руку, — сказал он со вздохом. — Какой же я дурак! Дай руку, Люсенька. Я поцелую ее. Ты мое солнышко, вот кто ты.
Он долго гладил Люсину руку, удерживая ее на ладони, как какого-нибудь пушистого, нежного зверька, а она стояла над ним, сидящим в рабочем кресле, и плакала.
— Вы так много сделали для меня, Анатолий Васильевич, — говорила она сквозь слезы. — Вы такой хороший человек.
— Плохой, солнышко мое! Очень плохой.
— Нет, вы хороший. Вы даже сами этого не знаете. Я в жизни своей не встречала лучше. Вы добрый, умный и очень красивый. А я такая счастливая, что встретила вас… Потому что я на работу, как на свидание, бегаю. Ну кто я вам? Скажите! Кто? Никто. А вы так много для меня хорошего сделали, что даже мать с отцом не сравняются с вами.
— Да чего ж я такого сделал-то! Объясни ты мне.
— Вы сами должны знать.
— Вот не знаю! Хоть убей, не знаю. На работу взял? Да господи! Это разве… Нет, не могу понять.
— Вы все для меня сделали, всю жизнь мою перевернули. Я как заново родилась.
— Спасибо, Люся, за такие слова. Ты ведь тоже мне, как родная. А знаешь что, Люся! Знаешь, что тебе сейчас скажет старый грешник? Пошли-ка мы с тобой сегодня после работы в ресторан. Закажем бутылку шампанского, а мужу скажешь… придумаешь чего-нибудь, скажешь, что у сотрудника какого-нибудь день рождения или юбилей отмечали… Как ты на этот обман посмотришь, не оттолкнешь старика сумасшедшего?
В тот вечер Люся впервые была в квартире Рогова, впервые изменила мужу, не испытав при этом и капли сомнения или угрызения совести, словно какой-то старый долг исполнила, смущаясь только оттого, что впервые назвала Рогова просто по имени — Толей.
Она свой поступок как бы даже и за измену-то не посчитала, словно бы именно замужество было изменой, а это — долг, это — то, что она всегда должна была делать, но по стечению обстоятельств не делала, неся в душе постоянную вину перед Роговым, которого любила, которому поклонялась, как какому-то ею же самой сотворенному идолу.
— Нет, Толя, об этом ты даже и не думай. Этого не будет никогда, — говорила она, если он опять и опять начинал разговор о женитьбе на ней, о разводе с мужем. — Иван не должен ничего этого узнать никогда, а то он с горя умрет. Пусть ему будет тоже хорошо. Он у меня такой доверчивый, чего ни скажу, всему верит. Да и маленького Толеньку жалко.
Люся к тому времени заметно располнела, на животе у нее образовалась толстая и рыхловатая складка, увеличились и без того большие груди, нездоровой водянистостью отекли глаза, поблескивающие вечной какой-то слезой, отяжелели и ноги. Нервы тоже пошаливали: видимо, сказывалась тайная жизнь, которая стала для нее необходимостью; старея, Рогов делался