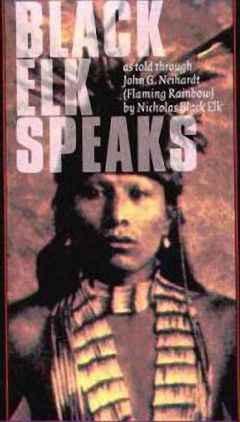Возвратилась Анфиса Лукинична, обмела веником валенки.
— Буранит на дворе-то...
— Что там? Кто это?
— Спи, дочка. Ванька Бодров. Пьянющий — страсть. Подай ему доктора и все. И матюкается — не приведи господи! Вот уж ералашный мужик. Про мальчонку какого-то мелет, а сам на ногах не стоит. Спи, дочка. Сказала, что нет тебя, слышь, дома, в командировке ты...
— Зачем же, тетя Фиса? — вскинулась Люба. — Может, у него и правда что-нибудь случилось...
— Это у Ваньки-то Бодрова? Обиду старую вспомнил спьяну, вот и приплелся, пес ералашный. Ералашнее его во всем районе не отыщешь. Ох-хо, грехи тяжкие! — Анфиса Лукинична улеглась на кровати, с минуту повздыхала и уснула.
Не шел к Любе сон. Вполне возможно, что Бодров решил «поговорить» с доктором. А если правда что-то в семье случилось?
Встала. Оделась. Анфиса Лукинична приподняла голову, сонно посокрушалась: «Господи, и что это за работа, не дадут человеку и поспать ладом!..»
Возле Бодровых стояли громадные сани с невысоко наложенным сеном. Они были прицеплены к работающему на малых оборотах трактору. В избе ярко горел свет, мелькали тени. Прижимая руку к сердцу, запыхавшаяся Люба перешла на шаг: «Зря, наверно, поднялась! Видно, гости, гулянка...»
Вошла. В избе было тесно от народа. Пахло табаком, соляркой и водкой. А на неразобранной кровати лежал ребенок месяцев семи-восьми. Рядом сидела жена Бодрова и, уткнувшись в руки, беззвучно плакала, только крупно и часто вздрагивали ее ссутуленные плечи. Люди расступились, пропуская Любу.
— А-а, явилась! — заорал Бодров, вытаращив на нее красные глаза. — Дрыхла-а! А ребенок, а сынишка... готов!..
Незнакомые Любе мужчины в замасленных полушубках увели его в другую комнату. С печи выглядывали перепуганные детишки.
Ребенок был еще теплый, но мертвый. Личико его было синим, словно умер он от удушья. Люба приподняла мальчика, оголила ему спинку: на ней уже проступили синеватые пятна. Ребенок погиб не менее двух часов назад.
Обессиленно всхлипывая, ловя зубами прыгающие губы, Паша пыталась объяснить:
— Ехали на тракторе... Из Степного... Сначала он плакал... Деточка моя милая... А потом замолчал... Думала, уснул крошка... Укутала. Развернули, а он... он не дышит...
Бодров ворвался в горницу:
— Ежли б не дрыхла, пришла б сразу!.. За сына я тебе!..
И опять молчаливые суровые трактористы увели его.
Люба шла, спотыкаясь на снежных переносах. Не замечала, как все злее и злее завывает вьюга, рвет полы ее пальто... Всегда тяжело, когда из жизни уходит человек, когда ты, врач, отступаешь перед костлявой старухой с железной косой. Никому не доводится видеть столько человеческих смертей, сколько врачу. И если он не привыкнет, не очерствеет, то каждую смерть переносит как личную трагедию. И особенно тяжко уходить из дома, где тебя ждали, где на тебя надеялись...
Что сейчас думают о ней там, у Бодровых? Она не пришла сразу. Не поверила, что и у пьяного Бодрова может случиться несчастье. Им легче было бы, если б она, врач, сразу же откликнулась на их беду. А она решала: идти или не идти? Прав Леснов: «Даже если тысячу раз убеждена, что человек давно мертв, все равно пытайся что-то делать, оказывай помощь. Это не ему нужно, а его близким...» Но что делать с трупиком ребенка, если поздно, поздно?! Люба ничего не стала делать, сказала только, что мальчик задохнулся часа полтора — два назад. Завтра она вызовет медэксперта — случай такой, когда для установления истины требуется третье лицо.
Но эксперт не приехал ни завтра, ни послезавтра — степь и дороги поглотила многодневная свирепая вьюга. Где-то между Лебяжьим и Степным ветром порвало телефонные провода. Поселок был отрезан от всего мира, теперь это действительно был глухой угол.
Несмотря на протесты Любы, Бодровы похоронили мальчика.
В один из вьюжных дней Владислав объявил о комсомольском собрании. Он дважды оповестил о нем по местному радио. Сообщил и повестку дня: «Твоя личная ответственность...»
Перед началом собрания за ней зашли Генка с Таней, оба решительные, неустрашимые. Люба опять засомневалась: правильно ли, что именно они трое начнут разговор о Владиславе? Ведь многие могут понять это как сведение личных счетов.
— Чепуха! — сказал Генка. — Нас поддержат ребята.
Шли по бело-черной улице, держась за руки, ориентируясь на слабое пятно лампы над входом в клуб. Вьюга путалась в ногах, яростно толкала в грудь, стремясь опрокинуть навзничь. Мельчайший, как порошок, снег слепил глаза, набивался в рот, в нос, в рукава, за ворот.
В фойе кто играл в шахматы, кто листал журналы и газеты на длинном столе, кто делился новостями. У окна стояли Григорий с Диной. Дина что-то говорила Григорию, а он молчал, только плечами пожимал и оглядывался на вошедших. Увидав Любу, помахал рукой. Дина поцокала каблуками туфель (успела переобуться) в противоположный конец фойе, к большому зеркалу. Григорий подошел к Любе, взял у нее пальто.
— Дина первую полусцену устроила, — неловко усмехнулся он. — Из-за Владислава.
— Непочтительно отозвался о нем?
— Наоборот. Он же нам всю свадьбу украсил...
— Положим, тройки с бубенцами Фокей Нилыч организовал.
— Но заводилой-то Славка был! Не понимаю я вас, женщин.
Люба засмеялась:
— А пора бы!
Было без пяти семь, когда во входных дверях показались заснеженные Острецов с поднятым воротником пальто и Чебаков в черном полушубке. Владислав никогда не опаздывал, как на школьный урок. И не любил, когда другие опаздывали.
— Давайте будем начинать, товарищи! — сказал он, проходя за кулисы. Был он сосредоточен и деловит.
Быстро расселись, и Владислав, став за столом на сцене, предложил избрать президиум. Сам же назвал имена: Григория и Таню. Словно знал об уговоре троих, разобщил девушку с Генкой и Любой. Потом прошел к трибуне, в руках у него не было никаких бумаг.
— Тут некоторые комсомольцы, — он сделал паузу и посмотрел сначала на Любу, а потом на Чебакова, сидевшего в первом ряду около Жукалина. — Некоторые комсомольцы просили провести это внеочередное собрание. Боясь быть обвиненным в зажиме демократии, — Владислав легонько усмехнулся, — я и решил не откладывать дела в долгий ящик. Только формулировку повестки дня несколько изменил. Люба Устименко предлагала так: «Разговор о чести и беспринципности». Ну и мою вы знаете: «Твоя личная ответственность». Слушая внимательно, вы заметите, что доклад, в сущности, не отходит ни от одной из формулировок...
Владислав начал с колхоза, с его чести и славы. С того, что комсомольцы должны повседневно, не страшась трудностей, бороться с очковтирательством, равнодушием и беспринципностью, которые тормозят развитие не только колхоза, но и всего общества. Слегка коснулся женитьбы Григория и Дины, они, мол, оказались не на высоте, нарушив моральный кодекс советского человека. Григорий не удержался, буркнул:
— Под кем лед трещит, а под нами ломится!..
Пробежал смешок, оживив людей. Улыбнулся на трибуне и Владислав, тряхнув шевелюрой.
— Это верно, Гриша! — Владислав подержал кулак у рта, словно задумавшись на минуту, и выбросил пятерню к залу: — А теперь мне хотелось бы вот на чем остановиться: на личной ответственности каждого из нас за порученное нам дело. Труд — мерило нашей гражданской, комсомольской, если хотите, сознательности, чести, достоинства. Не все мы четко понимаем это. Вот если в газете появляется на нас критика, справедливая критика, или карикатура, тоже, в общем, справедливая, то это мы воспринимаем как оскорбление. Приведу пример. Свежий пример. На комсомольской конференции пожурили Любу Устименко. И что же?! Она опустила руки, ей немила стала так горячо любимая прежде работа. В результате — она не пришла вовремя на вызов. Ребенок товарища Бодрова погиб. Возможно, частично по вине Любы Устименко...
— Никто не ставит под сомнение, что он еще в дороге... Никто!
Владислав повернул голову к вскочившей за столом Тане. Согласно кивнул:
— Вполне солидарен с тобой, Таня! А вот отец ребенка считает иначе... К сожалению, эксперт не смог приехать. Тогда, возможно, мы не имели бы счастья видеть Любу на нашем собрании, была бы она... Тем не менее это не дает нам права замалчивать антигуманное поведение человека, который даже по своей профессии должен быть самым отзывчивым, самым чутким. Сейчас у нас лишь косвенные улики за недоказуемостью, а завтра, если мы не пресечем зло в корне... Устименко открыто надругалась над своим высоким званием врача. Если вам не изменяет память, товарищи, началось это со дня приезда Устименко, когда она выписала Бодрову оскорбительный рецепт. Разве такое допустимо?
Да, Острецов не случайно торопился провести собрание. Пока в людях не забылась смерть ребенка, ее снова напомнили им, преподнесли в зловещем освещении... Вот почему торопился Острецов с собранием! Вот почему ездил в пургу за Чебаковым. Он умнее, тоньше оказался, чем она предполагала. И тут Любу вдруг озарило: да ведь Владислав не скажет нигде и никому, за что ему побил окна Лешка — Генкин товарищ, почему Азовсков не дал стекла. Если бы все сидящие в зале знали эти причины, то разве так бы он выглядел в их глазах сейчас, на высокой трибуне! Но они не знали, и поэтому Владислав предстал перед ними героем, жертвой, страдальцем за правду, за принципиальную критику. А народ любит героев! Герой же не ради личной корысти старается, а ради общего... И, конечно же, его поддержат. И будут до тех пор поддерживать, пока не разберутся, пока не увидят, кто он на самом деле...