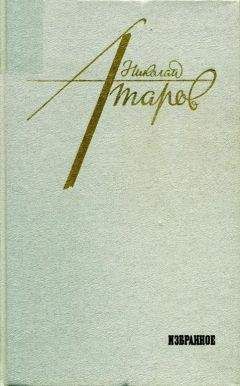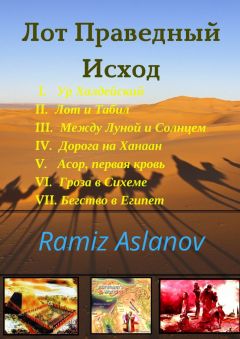— Я Россию всю обошел. Ищу, а чего мне надобно, не знаю. По правде, милок, сказать, я кулачок, с тридцатого года — раскулаченный. Россию обошел и в лаптях, и в сапогах, а бывало, и на велосипеде. На фронте, правда, не задерживался. Стянешь с чьих-то мерзлых ног сапоги, прикроешь карточку ему ледяными портянками, и — ходу. Не задерживался. У меня такое правило. Хотя еще и до войны было сказано: «Нет таких крепостей…» Он ухмыльнулся с прищуром, протянул мне жестяную кружку, тоненько вопросил:
— Даже спирта?
Я не понял.
— Ты о чем?
— Говорят, даже спирта нет таких кре́постей.
— В Плесе зачем высадился? — спросил я. — С «Памяти Покровского»?
— Это точно. Покровский, слыхать, ученый историк был. Всю Россию мозгами исходил, а я ногами.
— Бродяга, значит?
— Точно. Как нас расщепили в тридцатом, из нашего классу бродяги пошли двух категориев — лодыри, лоботрясы, другие — любопытствующие. Я Россию по второму кругу обхожу. Вот и в Плесе по второму разу пришлось. Тут на горке выдающая церковь стоит. С Волги видная. Вокруг ее дорожки — вроде тропочек для пешеходного хождения. В прошлом веке монахи выкладывали, по узору расписывали, камушек к камушку… Камушки с голубиное яйцо, до того мелкие. Крепко сбиты — ни выбоинки, ни ямочки, как ковровые каемочки. Пойду, загляну еще раз.
Дней через пять увидел я странника на набережной. Он выгружал с грузовика битый камень с той стороны Волги. Здесь шло большое строительство. Вдоль многих километров поднимали берег реки и на новом уровне выстраивали булыжную мостовую.
Странник узнал меня. Подошел, снял миткалевую рукавицу, пожал руку.
— Пристроился. Вот, гляди, какой камень везут с каменоломни. Огромаднейший. Грузовик привез с пристани — мы уложим. Следующий подойдет, все разворочает — начинай сначала! Торопимся — к годовщине поспеть. План делаем с тоннажу, баржи берут с тоннажу, норовят покрупнее булыжники закинуть, и транспорт — с тоннажу. А мы закладываем. Где оно, голубиное яичко?
Он глянул на меня, и я впервые заметил, что взгляд у него мечтательный и тоскливый.
…И вот замелькал Каир, — старый, кирпичный Каир — пальмы, плоские кровли, белье, сохнущее на балконах, нищие, мусорщики с метлами, великолепные кадиллаки, под акацией в узком переулке шарманщик со своим музыкальным ящиком, подводы на колесах с толстой резиной, на них густо насевшие крестьяне, едущие на базар, красные фески, коршуны, парящие в небе, серый глинистый Каир с арабской вязью вывесок на стенах, мальчишки, детвора босая, — множество гаменов Каира.
И вот уже прохладный венценосный Нил, со своими мостами, великолепная архитектура щегольских отелей, роскошь современных железобетонных, стеклянных особняков. Вполне романтичные фелюги сворачивают свои паруса и наклоняют тугие мачты под мостами.
На минарете запел муэдзин. Голос его могуче разносился над узкими улочками базара. Это был голос, записанный на пленку, механический голос — о боже, мечеть в глубине Африки уже радиофицирована! Но я не заметил какого-нибудь позыва к вечерней молитве среди продавцов и покупателей на базаре. Не приступал к намазу лудильщик в своей конуре, заставленной и увешанной тазами, чанами и кастрюлями, — где на полу произрастали пятеро его детишек; продавец сигарет, расставлявший свой товар в плоской нише стены дома; галантерейщик, молодые коробейники, торговавшие, всяк за свою цену, разнообразно-однообразными мужскими носками; продавцы апельсинов, бананов, арбузов. На этом базаре все было вперемешку. И никто не молился. Только одинокий старый сапожник в глубине своей мастерской занял позицию, как бывает у нас на физкультминутке, и стал сгибать и выпрямлять свой хилый стан. Только он откликнулся на вечернем базаре на голос веры, да еще один продавец за прилавком: он как будто собирал рассыпанные булавки…
Есть ли благо жизни сам труд или только производное от него — в виде квартиры, дачи, машины, цветного телевизора? Отношение современника к «благам жизни» — вот что определяет передового человека…
Мирная полоса жизни — вот уже более тридцати лет — не может не характеризоваться ростом потребительских тенденций. Современный мещанин предстает в новом обличье, в скрытом своем состоянии, он приспособился к нашей социалистической системе, перенимает ее лозунги, его не разоблачишь плакатами РОСТА. Непомерно вырос протекционизм и все его связи — кумовство, беспринципная поддержка по линии землячества… А это развращает нравы молодежи — цинизм, нигилизм, неуважение к плодам народного труда, к заслугам и делам старшего поколения.
Просмотровый зал на «Мосфильме» назывался «Яичный». Стены его были оклеены материалом, похожим на тару для перевозки яиц — множество лунок, выбитых в картоне. Почти пятнадцать лет моей жизни прошли в этом зале, в уютной темноте его… Я просмотрел десятки тысяч метров кинопленки. Мелькали лица, скакали кони, текли медлительные русские реки, солдаты с искаженными лицами шли в атаку, бежали фотогеничные облака, рвались безвредные кинематографические фугасы. Не всегда это были готовые фильмы — чаще «пробы», неозвученные эпизоды так и не состоявшихся фильмов, бесконечная прорва неоправдавшихся усилий, полубрак, о котором трудно подчас сказать, почему он лег на полку.
Если бы вернуть все израсходованные деньги, все вложенные напрасно капиталы на то, что делалось и не состоялось, что видели только мы — пятнадцать — двадцать человек, сидевших в полутемном зале, и чего не видели миллионы зрителей, для которых только и предназначалась вся эта прорва, — то можно было бы соорудить на дворе «Мосфильма» в рост его огромного здания великолепный памятник коллективной бессмыслице, тщетным усилиям, растраченным жизням, бесплодным талантам.
Сейчас я стал почти слепой. Не могу читать сценариев, не вижу отснятых кусков на экране и ухожу в отставку. Никто меня не гонит с должности члена сценарной коллегии третьего творческого объединения. Сам ухожу. И хочется мне напоследок обозреть свою работу, воплощенную в сотнях заседаний коллегии под председательством ушедшего в могилу, но бессмертно обаятельного Михаила Ильича Ромма.
Мы заседаем, извлекаем из портфелей стопки сценариев размером от шестидесяти до ста двадцати страниц, выносим свои решения. Снова по прошествии дней обсуждаем вторые и третьи варианты. Сотни прочитанных сценариев, сотни просмотров.
Нас покинул навсегда не только Михаил Ильич Ромм, но и такие талантливые художники кино, как Калатозов, Урусевский… Да, не счесть живых потерь и потерь материальных!
Что же, мы отдаем себе отчет в прорве незавершенного, брошенного на полуслове, зарытого в трех вариантах, закрытого, запрещенного? Забытого?
О, мы не только браковали. За эти годы народ увидел несколько отличных фильмов. Я и сам, закрыв глаза, вижу на экране своей памяти эпизоды многих замечательных произведений. Молодой Чухрай поставил «Балладу о солдате», старый Калатозов — «Неотправленное письмо», Ромм — «Девять дней одного года», «Обыкновенный фашизм». А «Чистое небо»? «Жили-были старик со старухой»? Просмотр этих фильмов доставлял большую радость. А фильмы Райзмана? А Ордынский? Его «Тучи над Борском», «Большая руда», «Три минуты молчания»…
В перспективе лет совсем не запомнились середнячки. А их было немало. Можно ли их считать неудачами? И даже если так, то бывает ли искусство без неудач? И тогда та самая прорва тоже какой ни на есть перегной…
С утра читал С. Шешукова «Неистовые ревнители» — историю рапповских бесчинств, а вечером на заседании сижу рядом с одним из членов «девятки». Всех, кажется, пережил и как молод, румян, подвижен, — снова вписан в злобу дня. И снова — книжки, брошюрки, статьи. Остался жив самый добрый и самый ничтожный. Может, помогла доброта?
Русский гений провидел многое на столетие вперед. Авербах, Лелевич, Родов, Ермилов — молодые «бесы» двадцатых годов… «Что там в поле? Кто их знает. Пень иль волк?..»
История Семена Родова, маленького неудачника, гомельского Северянина, взорлившего над талантливейшей литературой первого десятилетия новой России, непостижима без пушкинских «Бесов». И какой роман еще не написан о рапповской нечаевщине, предвосхитившей ежовщину, бериевщину! Я-то знал маленького, плюгавого, вызывающего улыбку Родова последних лет. Страшное и даже зловещее делается смешным спустя время.
В родном городе мой бывший наставник Владимир Николаевич Дуганский, уже больной, в постели, был сражен наповал распоряжением самовластной дикарки, приказавшей вынести из театра его музей. Какое характерное уничтожение любой невозвратимой ценности! Через два дня Дуганский умер. А я не помчался писать об этом. Стыдно.
Началось наступление на злого человека — оно идет одновременно в самой нашей общественной жизни и в ее зеркальном отражении: в искусстве, в литературе, в прессе.