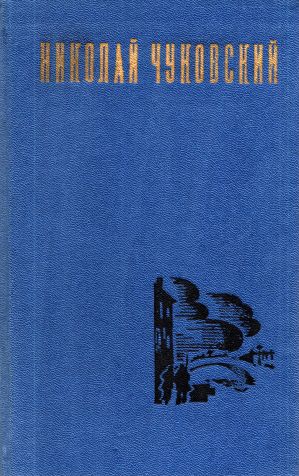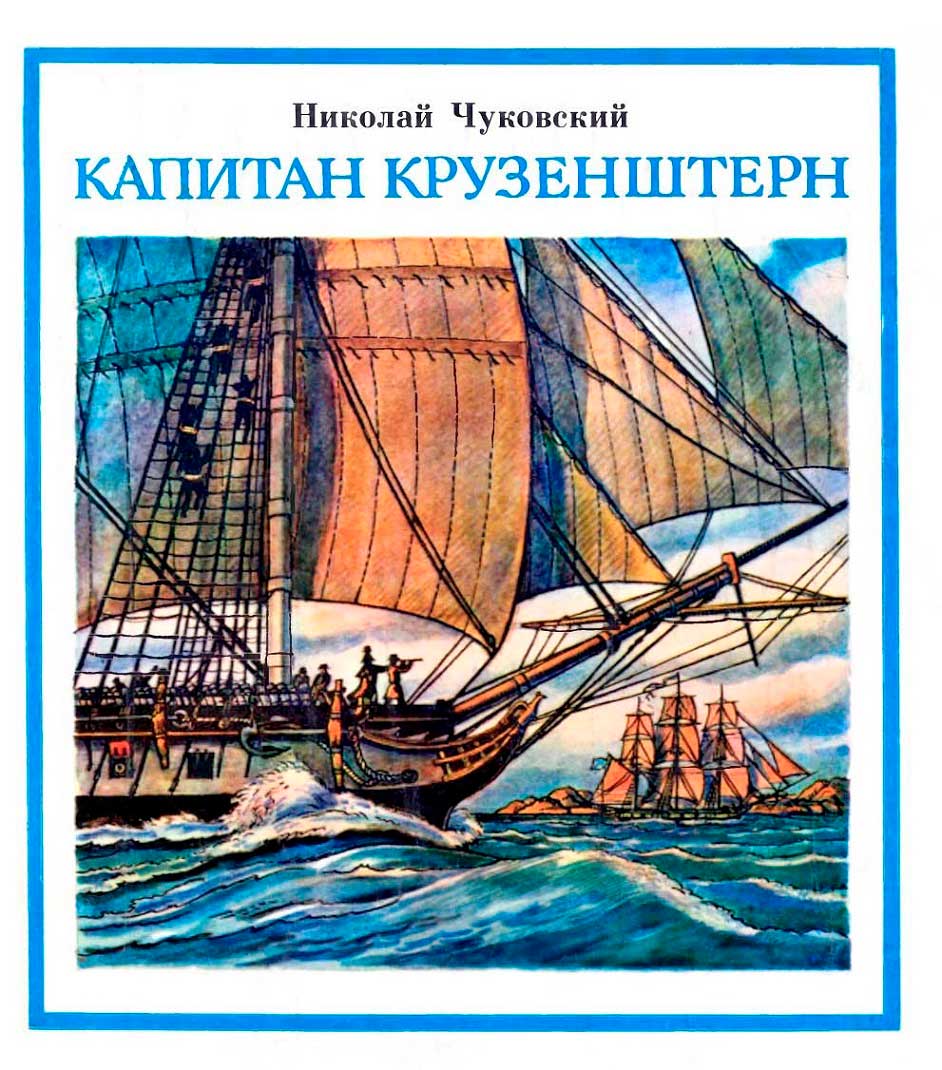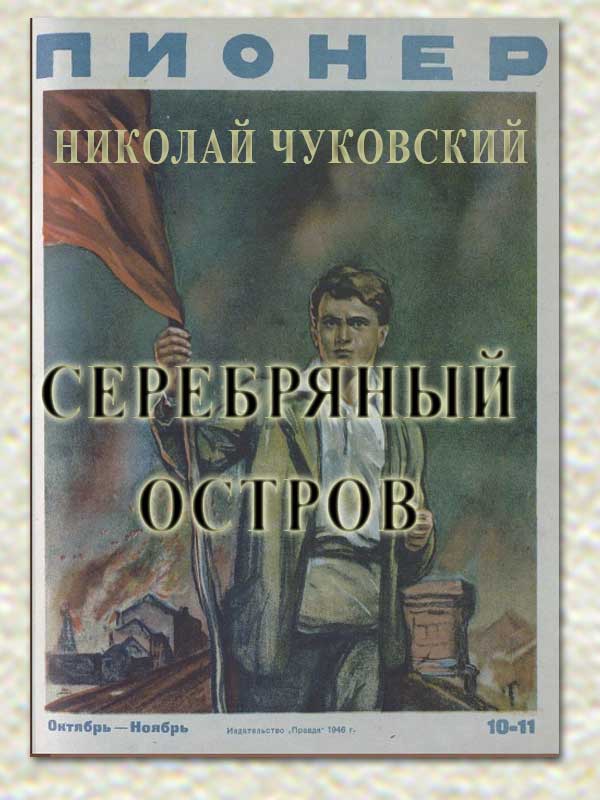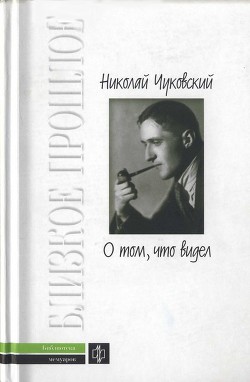зависит.
— Это не зависит от меня, — возразил я. — Я просто знаю, что у меня не хватит сил.
Она внимательно посмотрела на меня из-за кружки и промолчала. Я тоже замолчал. Мне было слишком хорошо от обжигающего губы кипятка, от тепла в комнате, от ее соседства, чтобы спорить, волноваться. Она налила мне еще кружку и вдруг спросила:
— А вы давно не мылись?
Я смущенно старался припомнить, когда я мылся в последний раз. Очень давно. В городе с осени не работала ни одна баня, а раздеваться в холодной типографии было так трудно и неприятно. Я уже много недель не снимал с себя ватника…
— Почти полный чайник горячей воды, — сказала она. — Вот я пойду, а вы мойтесь. Мойтесь, пока комната не остыла…
Она встала, прижав к себе тетрадь Сумарокова.
— А вам уже нужно уйти?
— Там мама, — ответила она мягко, понимая, что мне без нее будет жутко и тоскливо; она вполне сознавала свое душевное превосходство надо мной и обращалась со мной, как с ребенком, хотя я был старше ее вдвое. — Вымоетесь, уснете, а завтра утром пойдете в порт.
Заметив неуверенность в моих глазах, она прибавила:
— Вы дойдете. В человеке гораздо больше силы, чем он думает.
— Откуда вы это знаете? По себе?
— И по себе и по другим. Надо дойти, и вы дойдете.
Я дошел.
Едва я вышел за ворота и морозный ветер ударил в меня снежной крупой, мне стало ясно, что дойти нет никакой надежды. Ноги меня не держали, меня качало, как прут на ветру. Лечь в снег и закрыть глаза — вот все, чего мне хотелось. Дойду до угла и лягу. Но, дойдя до угла, я не лег, а побрел дальше, к следующему углу. В конце концов все равно, у какого угла лечь. Так я вышел на мост, перешел через Неву, свернул в длинную улицу и пошел все прямо, прямо — мимо разбитых бомбами домов, мимо домов сгоревших, мимо домов вымороженных. Узкая тропка вела меля между сугробами, где лежали запорошенные снегом трупы тех, кто шел здесь до меня. Я знал, что сам скоро буду лежать вот так, засыпанный, выставив темно-коричневый заледенелый кулак из снежной кучи, и это вовсе меня не пугало. Но если я могу пройти еще пять шагов, я их раньше пройду. К сумеркам я прошел всю длинную улицу до конца и дошел. Во мне оказалось больше силы, чем я думал.
Когда я явился, меня не узнали, когда узнали — удивились: здесь все считали, что я умер. Меня поселили на вмерзшей в лед барже вместе с рабочими, ремонтировавшими суда. Там было тепло; там был даже тусклый электрический свет от собственного маленького движка. Еще месяц назад в деревянном брюхе баржи меж ее исполинских ребер жило более ста человек. Но за этот месяц многие умерли, и найти для меня свободную койку было нетрудно.
Тут же, в соседнем отсеке, находилась столовая. Над столами висело кумачовое полотнище с лозунгом: «Цех питания в центр внимания». Этот лозунг сочинили и вывесили еще осенью, когда верили, что если внимательно следить за расходованием продуктов, их хватит для жизни. Инженеры принесли из лаборатории весы необычайной точности и поставили на стойку. Каждый мог проверить на этих весах, что ему выдали 3 грамма сахарного песка, а не 2,99. Не знаю, был в этом толк или не был, но обитатели баржи умирали так же, как обитатели домов. При мне на работу выходило человек сорок; остальные лежали на койках и не могли встать.
Через день я тоже вышел на работу. Ноги не держали меня, но я уже знал, что во мне больше силы, чем я думаю; раз я мог дойти до порта, значит, я могу работать. Когда-то в ранней молодости я работал подручным слесаря в железнодорожных мастерских; в то время я еще только мечтал стать журналистом. Слесарь я был плохой, но здесь от меня большой квалификации и не потребовалось. Мы ремонтировали старый транспортник, развороченный осенью авиационной бомбой. Вмерзший в лед борт его возвышался громадной стеной рядом с нашей баржей, и, пожалуй, самым трудным было подняться по трапу на эту стену. Бригада, в которую я попал, пробивала в железных листах отверстия для заклепок, сваривала трубы автогеном. Мы как тени двигались внутри осевшего на левый бок корабля; вся наша работа была похожа на замедленную съемку. Если нам нужно было поднять или передвинуть что-нибудь, мы наваливались вдесятером и потом долго сидели в полуобмороке.
Всякий раз, когда мы присаживались, нам было ясно, что мы никогда больше не встанем. Но я уже этому не верил. Я говорил себе, что, пока мы будем ремонтировать, мы будем жить. Я говорил, что это немцы хотят, чтобы мы умерли, и потому нам нельзя умирать. Я знал, что повторяю чужие слова, и помнил, от кого эти слова услышал. И мы вставали.
Переселившись на баржу, я, спустя некоторое время, кажется, действительно стал немного крепче. Не знаю, чему это приписать: во вторую половину зимы хлеба прибавили, но прибавка эта была так ничтожна, что люди вокруг умирали по-прежнему. Может быть, тому, что в столовой дважды в день выдавали суп — теплую воду с еле приметной мутью. Или тому, что наш врач, веривший в витамины, готовил для нас настой из еловых игл. Не знаю; вернее всего тому, что я жил с людьми и попал в упряжку; в упряжке всегда легче. Я стал лучше ходить, меньше лежать и не так выбивался из сил, когда подымался по трапу. Удивительнее всего, что у меня в глазах опять стали по временам вертеться огненные колеса с зубцами, которые почему-то совсем оставили меня как раз тогда, когда мне было особенно плохо. И еще одно полузабытое свойство вернулось ко мне — я стал очень хотеть есть.
Я теперь так же мучительно и нетерпеливо хотел есть, как в те первые дни, когда я еще только начинал голодать. Съев суп, я теперь был готов лизать языком дно тарелки. Я съедал свой хлеб не маленькими кусочками, под одеялом, как раньше, а сразу, в два откуса. Бумаги, штукатурка, кирпич стали казаться мне съедобными. Это заново проснувшееся острое желание есть привело меня к участию в одном преступлении.
Рабочие нашли на корабле десяток больших жестяных банок с каким-то жидким маслом. Впрочем, об этом масле знали и раньше: особое техническое масло, предназначенное для того, чтобы в нем растворяли какую-то