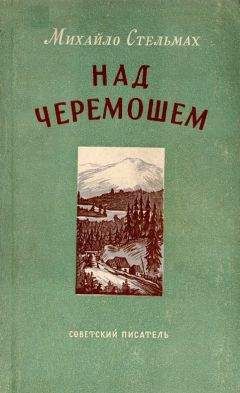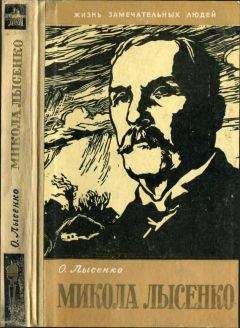— Спасибо, Илько, — Сенчук растрогался. — Порадовал! Порадовал!
— И еще порадую тебя: еду в Киев! Министерство сельского хозяйства вызывает. И есть у меня почти научная идея: забраться в научно-исследовательский плодо-ягодный институт. Если не дадут нам новых саженцев — украду, а в колхоз привезу. Как вы думаете, будут судить за это или нет еще такого параграфа в судебных книгах? — Он расхохотался на всю хату и, не ожидая ответа, заговорил мечтательно: — Только бы погода установилась. Нет ничего лучше, чем взобраться на самые вершины наших гор. Посмотришь, поглядишь вокруг — всюду поднимаются наши воссоединенные земли, залитые солнечным светом… Высоко в небе замер над полониной орел, но и он не видит конца-края нашей силы… Ты. Микола, не смейся! Я еще под старость стихи об этом напишу. Мои коломыйки даже один кандидат записывал и хвалил!
— Ну, раз хвалил, стало быть ты всю жизнь будешь о нем вспоминать, — лукаво подмигнув, заметил Сенчук.
— А по-твоему, я должен всю жизнь вспоминать, как меня критиковали? Я еще не такой сознательный, Микола… Может, выпьем по чарке, а то я к тебе всю дорогу натощак трясся.
Могучий, с размашистыми движениями и раскатистым голосом, он кажется Нестеренку настоящим орлом. И это ощущение не оставляет агронома, даже когда Сенчук умно подшучивает над какой-нибудь ошибкой или неуклюжей фразой Палийчука. Григорий сперва подумал было, что перед ним противоположные натуры, для которых, очевидно, спор так же необходим, как и дружба, но затем увидел, что резкая горячность есть и у Миколы Сенчука, только она заложена глубоко, как зерно в земле. А у Палийчука все наружу, и потому даже его недостатки вызывают не возмущение, а улыбку…
«Что ж, это недостатки роста!» — думает Нестеренко, верно определяя их сущность, и с еще большей симпатией следит за речью и ловкими движениями председателя, наливающего чарки.
— А что ты думаешь, Микола! На будущий год наш колхоз станет миллионером!.. Вас, товарищ агроном, этим не удивишь, а у нас, где крестьянин колол каждую спичку на четыре части и, причитая, сваливал детей, как в могилу, в заокеанские трюмы, это большая партийная новость. Голяк становится миллионером и человеком! Стало быть, воссоединенная земля и нас наделяет своим счастьем. Славно, а?
— Славно!
— Так выпьем за хорошие новости!
— За то, чтоб их все больше было! — Сенчук с любовью смотрит на друга своими ясными карими глазами. — Ты сам прикинул в голове свой миллион или с людьми советовался?
— С людьми. И в райкоме обдумывал с двумя секретарями. А третий сердится на меня. Погорячился я немного, ввернул ему кое-что самокритическое, а он и запомнил. Здоровается теперь словно не с председателем колхоза, а с подозрительным элементом. Тоже, видно, не любит критики, хоть и начальство… У тебя огурчика нету?.. Ну, обойдемся без кислого, на сладком проживем… И не только говорил, Микола, а и втолковывал по-всячески. Одним больше про идею, другим больше про доход. На это у меня терпения хватило. Даже неверующих зажег цифрами и надеждами. Простая цифра: увеличить урожай всего на два центнера с гектара — при искусственном опылении этого можно добиться, — и вот тебе тысяча шестьсот центнеров, и все идут на трудодни. Ведь это целых девятнадцать пудов добавочной оплаты на каждое хозяйство. Да и овцы дадут нам теперь немалую прибыль. Так вот и подсекаем помаленьку всякую вражью агитацию. Свеколка нам в этом году тоже помогла. Пускай не много еще она дала сахару колхозникам, а уже прищемила черные языки — перебираются от нас в другие места. Это переселение радует меня. Мы, коммунисты, поставили на ноги все село, когда заявили: «Люди, к нам теперь стучатся и богатство, и наука, и все, что хотите. Так отворяйте же им настежь двери своим честным трудом». И двери начинают отворяться. Кое у кого в хате еще поскрипывают, кое-где выглядывают только в узкую щелку, но отворяют. У тебя, на горах, труднее, ты своих людей и за два дня на собрание не созовешь — все разбросано… Ну, еще по одной. А Марку моя Ганна вот калачик передала. Из первой колхозной пшеницы. — Илько подошел к постели ребенка, и, наклонившись, положил у изголовья узелок с подарком. — Жениться тебе надо, Микола.
У мужчин одновременно вырвался вздох, но каждый сделал вид, что не заметил этого.
Откуда-то издалека в раскрытое окно долетел отзвук грустного мотива, и Палийчук, исподволь присоединив свой голос, задушевно пропел первые слова печальной галицийской песни; ритм и мелодия в ней были надломлены, как голос скорбящего человека. Сенчук стал тихонько вторить, и в напеве зазвенели новые ноты печали.
Нестеренко не узнавал гуцулов — на их задумчивые лица легла былая печаль отцов, и два однополчанина отдались трогательной песне о судьбе солдата первой империалистической войны:
Над горою пуля пронеслась,
В грудь герою пуля та впилась,
В волны тихого Дуная
Кровь рекою полилась.
А в Дунае тихая вода,
Там стояла женушка моя…
Когда спели, Илья Палийчук обнял своего друга, отвел глаза в сторону.
— Прощай, Микола… Поеду.
— Куда ж ты, на ночь глядя? — Сенчук удивился и рассердился.
— Не сердись, Микола. Спели — и вспомнилась мне моя Ганна. Вспомнилось, как она ждала меня с войны… Ну, что тебе говорить? Сам знаешь… Будь здоров, Микола.
— Счастливого пути, Илько. Ганне привет… Ох, и буен же председатель у вас в колхозе!
— Сегодня тебе критикой меня не донять, — засмеялся Палийчук. — На обратном пути из Киева непременно заеду.
Во дворе он только тронул рукой коня и уже очутился в седле, птицей вынесся на леваду. Нестеренку долго еще слышался из темноты топот копыт и отголосок новой, незнакомой песни.
* * *
В молодости любовь не приходит нежданно: она берет свое начало в затаенной надежде, в предчувствии, как источник берет свое начало в глубинах подземных вод.
На пороге любви растревоженное сердце само не знает, чего хочет и что ведет его вглубь вечеров, где задушевно звенят песни и смех. Но как веришь, как ждешь, что вот-вот встретишь и тот самый взгляд и ту самую улыбку, с которой не разминуться тебе, которая расцветает только для тебя, встретишь и потянешься к ней, как подсолнух к солнцу, называя свою любовь и солнцем и звездой, дивясь новым словам и своему счастью! И все окружающее станет новым, непривычным. И вид у тебя тоже станет непривычный, — все будут спрашивать, не потерял ли ты что-нибудь, и никто не поймет, что ты, наоборот, нашел.
У лесоруба Василя Букачука под вечер уже трижды спросили, не потерял ли он что-нибудь. И хотя этот вопрос задавали ему разные люди, парень сердито накинулся на приемщика Володимира Рыбачка, как будто один только он спрашивал все время об одном и том же:
— Не понимаю, сколько можно твердить об одном? Что, у тебя язык на холостом ходу или тебя Иван Микитей под бок толкает? Если хочешь знать, не потерял я, а нашел.
— Оно и видно, — добродушно засмеялся молодой приемщик. — А ты не сердись — печенка заболит.
— Ой, не то у него болит, — Иван Микитей с деланным сочувствием покачал головой и присел на пенек свежесрубленной пихты. — Сердце у него заболело, и никто его не уврачует, кроме молоденькой врачихи из Гринявки.
— Еще одно слово — и не меня, а тебя придется лечить! — смуглое лицо Василя побагровело от гнева. Его любовь была еще в той поре, когда ее скрывают, думая, что никто ничего не видит.
Иван Микитей, зная натуру товарища, встревоженно вскочил и попятился, лукаво подмигнув Рыбачку, и оба сморщились, чтобы не расхохотаться.
Василь, хмуро глянув исподлобья на парней, стал спускаться, и тогда вдогонку ему, как камешки с горы, покатился смех.
Василь обернулся, погрозил кулаком, а парни в ответ широко развели руками.
— Да мы же не над тем смеемся. Мы знаем, что у тебя никакого врача нету! — и они снова расхохотались.
Василь смерил лесорубов подозрительным взглядом и ничего не сказал.
— И на что скрывать любовь? — удивляется Рыбачок. — Я горжусь ею и своей любушкой горжусь.
— Любовь у каждого идет своим путем и каждому кажется самой лучшей, — рассудительно пояснил Микитей и, глянув вниз, снова прыснул. — Василь-то уже не идет, а летит к своему врачу.
Чем ближе Василь подходил к Гринявке, тем легче и тревожнее становилось у него на сердце. Последние дни принесли ему и большую радость и заботу. Мариечка уже выходила к нему, не убежала даже, когда в сад вышел дед Савва, парень побывал и дома у девушки, но она то улыбкой, то шуткой, то строгим взглядом отводила его руки и пылкие слова любви.
— Мариечка, я без тебя жить не могу…
— Точнехонько эти слова я слыхала в кино! Понравились тебе? — пела она в ответ и смеялась.
— Ты опять смеешься, а у меня сердце разрывается на четыре части.