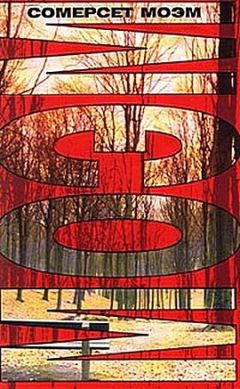За день до отъезда Кузьмина Башилов передал ему письмо для своей жены, и впервые на лице у Башилова Кузьмин заметил растерянную улыбку. А потом ночью Кузьмин слышал, как Башилов ворочался на койке и сморкался. «Может быть, он и не такой уж сухарь, — подумал Кузьмин. — Вот, кажется, плачет. Значит, любит. И любит сильно».
Весь следующий день Башилов не отходил от Кузьмина, поглядывал на него, подарил офицерскую флягу, а перед самым отъездом они выпили вдвоем бутылку припрятанного Башиловым вина.
— Что вы на меня так смотрите? — спросил Кузьмин.
— Хороший вы человек, — ответил Башилов. — Вы могли бы быть художником, дорогой майор.
— Я топограф, — ответил Кузьмин. — А топографы по натуре — те же художники.
— Почему?
— Бродяги, — неопределенно ответил Кузьмин.
— «Изгнанники, бродяги и поэты, — насмешливо продекламировал Башилов, — кто жаждал быть, но стать ничем не смог».[97]
— Это из кого?
— Из Волошина. Но не в этом дело. Я смотрю на вас потому, что завидую. Вот и все.
— Чему завидуете?
Башилов повертел стакан, откинулся на спинку стула и усмехнулся. Сидели они в конце госпитального коридора у плетеного столика. За окном ветер гнул молодые деревья, шумел листьями, нес пыль. Из-за реки шла на город дождевая туча.
— Чему завидую? — переспросил Башилов и положил свою красную руку на руку Кузьмина. — Всему. Даже вашей руке.
— Ничего не понимаю, — сказал Кузьмин и осторожно убрал свою руку. Прикосновение холодной руки Башилова было ему неприятно. Но чтобы Башилов этого не заметил, Кузьмин взял бутылку и начал разливать вино.
— Ну и не понимайте! — ответил Башилов сердито. Он помолчал и заговорил, опустив глаза: — Если бы мы могли поменяться местами! Но, в общем, все это чепуха! Через два дня вы будете в Наволоках. Увидите Ольгу Андреевну. Она пожмет вам руку. Вот я и завидую. Теперь-то вы понимаете?
— Ну что вы! — сказал, растерявшись, Кузьмин. — Вы тоже увидите вашу жену.
— Она мне не жена! — резко ответил Башилов. — Хорошо еще, что вы не сказали «супруга».
— Ну, извините, — пробормотал Кузьмин.
— Она мне не жена! — так же резко повторил Башилов. — Она — всё! Вся моя жизнь. Ну, довольно об этом!
Он встал и протянул Кузьмину руку:
— Прощайте. А на меня не сердитесь. Я не хуже других.
Пролетка въехала на дамбу. Темнота стала гуще. В старых ветлах сонно шумел, стекал с листьев дождь. Лошадь застучала копытами по настилу моста.
«Далеко все-таки!» — вздохнул Кузьмин и сказал извозчику:
— Ты меня подожди около дома. Отвезешь обратно на пристань…
— Это можно, — тотчас согласился извозчик и подумал: «Нет, видать, не муж. Муж бы наверняка остался на день-другой. Видать, посторонний».
Началась булыжная мостовая. Пролетка затряслась, задребезжала железными подножками. Извозчик свернул на обочину. Колеса мягко покатились по сырому песку. Кузьмин снова задумался.
Вот Башилов позавидовал ему. Конечно, никакой зависти не было. Просто Башилов сказал не то слово. После разговора с Башиловым у окна в госпитале, наоборот, Кузьмин начал завидовать Башилову. «Опять не то слово?» — с досадой сказал про себя Кузьмин. Он не завидовал. Он просто жалел о том, что вот ему сорок лет, но не было у него еще такой любви, как у Башилова. Всегда он был один.
«Ночь, дождь шумит по пустым садам, чужой городок, с лугов несет туманом, — так и жизнь пройдет», — почему-то подумал Кузьмин.
Снова ему захотелось остаться здесь. Он любил русские городки, где с крылечек видны заречные луга, широкие взвозы, телеги с сеном на паромах. Эта любовь удивляла его самого. Вырос он на юге, в морской семье. От отца осталось у него пристрастие к изысканиям, географическим картам, скитальчеству. Поэтому он и стал топографом. Профессию эту Кузьмин считал все же случайной и думал, что если бы родился в другое время, то был бы охотником, открывателем новых земель. Ему нравилось так думать о себе, но он ошибался. В характере у него не было ничего, что свойственно таким людям. Кузьмин был застенчив, мягок с окружающими. Легкая седина выдавала его возраст. Но, глядя на этого худенького, невысокого офицера, никто не дал бы ему больше тридцати лет.
Пролетка въехала наконец в темный городок. Только в одном доме, должно быть, в аптеке, горела за стеклянной дверью синяя лампочка. Улица пошла в гору. Извозчик слез с козел, чтобы лошади было легче. Кузьмин тоже слез. Он шел, немного отстав, за пролеткой и вдруг почувствовал всю странность своей жизни. «Где я? — подумал он. — Какие-то Наволоки, глушь, лошадь высекает искры подковами. Где-то рядом — неизвестная женщина. Ей надо передать ночью важное и, должно быть, невеселое письмо. А два месяца назад были фронт, Польша, широкая тихая Висла. Странно как-то! И хорошо».
Гора окончилась. Извозчик свернул в боковую улицу. Тучи кое-где разошлись, и в черноте над головой то тут, то там зажигалась звезда. Поблестев в лужах, она гасла.
Пролетка остановилась около дома с мезонином.
— Приехали! — сказал извозчик. — Звонок у калитки, с правого боку.
Кузьмин ощупью нашел деревянную ручку звонка и потянул ее, но никакого звонка не услышал — только завизжала ржавая проволока.
— Шибче тяните! — посоветовал извозчик.
Кузьмин снова дернул за ручку. В глубине дома заболтал колокольчик. Но в доме было по-прежнему тихо, — никто, очевидно, не проснулся.
— Ох-хо-хо! — зевнул извозчик. — Ночь дождливая — самый крепкий сон.
Кузьмин подождал, позвонил сильнее. На деревянной галерейке послышались шаги. Кто-то подошел к двери, остановился, послушал, потом недовольно спросил:
— Кто такие? Чего надо?
Кузьмин хотел ответить, но извозчик его опередил.
— Отворяй, Марфа, — сказал он. — К Ольге Андреевне приехали. С фронта.
— Кто с фронта? — так же неласково спросил за дверью голос. — Мы никого не ждем.
— Не ждете, а дождались!
Дверь приоткрылась на цепочке. Кузьмин сказал в темноту, кто он и зачем приехал.
— Батюшки! — испуганно сказала женщина за дверью. — Беспокойство вам какое! Сейчас отомкну. Ольга Андреевна спит. Вы зайдите, я ее разбужу.
Дверь отворилась, и Кузьмин вошел в темную галерейку.
— Тут ступеньки, — предупредила женщина уже другим, ласковым голосом. — Ночь-то какая, а вы приехали! Обождите, не ушибитесь. Я сейчас лампу засвечу, — у нас по ночам огня нету.
Она ушла, а Кузьмин остался на галерейке. Из комнат тянуло запахом чая и еще каким-то слабым и приятным запахом. На галерейку вышел кот, потерся о ноги Кузьмина, помурлыкал и ушел обратно в ночные комнаты, как бы приглашая Кузьмина за собой.
За приоткрытой дверью задрожал слабый свет.
— Пожалуйте, — сказала женщина.
Кузьмин вошел. Женщина поклонилась ему. Это была высокая старуха с темным лицом. Кузьмин, стараясь не шуметь, снял китель, фуражку, повесил на вешалку около двери.
— Да вы не беспокойтесь, все равно Ольгу Андреевну будить придется, — улыбнулась старуха.
— Гудки с пристани здесь слышно? — вполголоса спросил Кузьмин.
— Слышно, батюшка! Хорошо слышно. Неужто с парохода да на пароход! Вот тут садитесь, на диван.
Старуха ушла. Кузьмин сел на диван с деревянной спинкой, поколебался, достал папиросу, закурил. Он волновался, и непонятное это волнение его сердило. Им овладело то чувство, какое бывает всегда, когда попадаешь ночью в незнакомый дом, в чужую жизнь, полную тайн и догадок. Эта жизнь лежит, как книга, забытая на столе на какой-нибудь шестьдесят пятой странице. Заглядываешь на эту страницу и стараешься угадать: о чем написана книга, что в ней?
На столе действительно лежала раскрытая книга. Кузьмин встал, наклонился над ней и, прислушиваясь к торопливому шепоту за дверью и шелесту платья, прочел про себя давно забытые слова:
И невозможное возможно,
Дорога дальняя легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка…[98]
Кузьмин поднял голову, осмотрелся. Низкая теплая комната опять вызвала у него желание остаться в этом городке.
Есть особенный простодушный уют в таких комнатах с висячей лампой над обеденным столом, с ее белым матовым абажуром, с оленьими рогами над картиной, изображающей собаку около постели больной девочки. Такие комнаты вызывают улыбку — так здесь все старомодно, знакомо и давно позабыто.
Все вокруг, даже пепельница из розовой раковины, говорило мирной и долгой жизни, и Кузьмин снова подумал о том, как хорошо было бы остаться тут и жить так, как жили обитатели старого дома, — неторопливо, — в чередовании труда и отдыха, зим, весен, дождливых и солнечных дней.
Но среди старых вещей в комнате были и другие. На столе стоял букет полевых цветов — ромашки, медуницы, дикой рябинки. Букет был собран, должно быть, недавно. На скатерти лежали ножницы и отрезанные ими лишние стебли цветов.