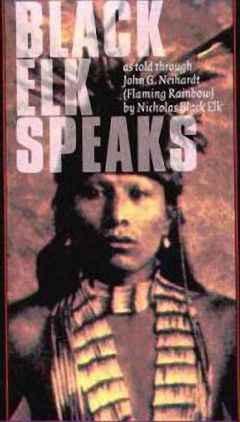— Гм! Мне казалось, наоборот. Ты ошибаешься, дорогой Острецов. У него проси рекомендацию. Вот это действительно честь: человек более сорока лет в партии! Сам Фурманов принимал его в РКП(б). Хочешь, позвоню Павлу Васильевичу, подскажу?
— Что вы, Алексей Тарасович! — Острецов крепко перетрусил. — Мне будет неловко. Он же и скажет: «Ты что, Владислав, сам не мог попросить у меня рекомендации?!» Не надо, Алексей Тарасович. Другое дело, если бы вы лично поручились...
Черевичный, казалось, терял интерес к Острецову, слушал невнимательно, думал о чем-то другом. О чем? О посевной? О расплодной кампании в овцеводстве? О повестке дня очередного заседания бюро райкома? Или о предстоящей поездке по району? Был он в толстом свитере, диагоналевых синих галифе и кирзовых тяжелых сапогах. Рассказывали, иногда Черевичный оставлял завязший «газик» и шел по весенним полям пешком, делая за день по двадцать-тридцать километров. Он мог появиться там, где его совершенно не ждали пахари и сеяльщики, отрезанные распутицей от всего района.
Пора было прощаться. Острецов извинился за непрошеный визит и мысленно искал тот момент в их разговоре, когда допустил «перебор». Что повлияло на Черевичного? Почему он вдруг охладел к нему? Пришлось признаться, что в последнее время он, Острецов, стал терять чувство меры, и это оборачивалось против него. «Все пропало! Очевидно, все пропало!»
— Слушай, — задержал его Черевичный, — а как там тот комсомолец, что...
— Григорий Карнаухов?
— Да-да
После той стычки с Григорием Острецов почти не видел его. Не довелось разговаривать и с Диной, потому что при встречах «цыганочка-смугляночка» смотрела на него, словно на пустое место. В общем, Острецов не знал, как живут молодые Карнауховы. Но ответил бодро и уверенно:
— Замечательная семья получилась, Алексей Тарасович!
— Ну вот, дорогой, а ты хотел наказать.
— Вы правы были, Алексей Тарасович... Мы им такую великолепную свадьбу устроили. Тройки с колокольчиками...
— Да-да, мне рассказывал Чебаков. Ну, всего найкращего, как говорят украинцы.
Острецов ушел, а Черевичный долго сидел в задумчивости. Он не мог понять, чем ему на этот раз не понравился лебяжинский учитель. «Михеева о нем положительно отзывается... Шапочное знакомство, мимоходом? Может, в суждениях о нем Азовскова есть доля истины горькой? Шапочное знакомство...»
Он вынул из кармана помятую записную книжку и, сняв наконечник с авторучки, написал:
«После посевной пожить в Лебяжьем несколько дней. Разобраться. Изучить не хозяйственные дела, а людей».
Слово «людей» подчеркнул двумя линиями.
Где-то рядом за окном журчал ручеек. Полторы недели назад, когда Фокея Нилыча привезли в участковую больницу с инфарктом, ручейка еще не было. Тогда весна лишь проклевывалась, постукивая капелью. А потом в разноголосице улицы появился вот этот булькающий звук. С каждым днем ручеек лопотал все звонче, решительнее, увлекаемые потоком льдинки перестукивались тонко, стеклянно, точно подвески хрустальной люстры. Иногда обостренный тишиной палаты и ничегонеделаньем слух Фокея Нилыча улавливал шуршание падающего в воду снега, подмытого ручьем.
Поздним вечером они засыпали вместе — Фокей Нилыч и ручей. Утром пробуждались тоже вместе: ручей начинал булькать, ломать ледяную покрышку ночного морозца, а Фокей Нилыч принимался думать и слушать его картавую речь. В его положении ничего другого не оставалось делать: Люба запрещала вставать, двигаться, читать, волноваться. «Вам покой, полнейший покой необходим!» — твердила она, принося ему лекарства и через резиновые трубки выслушивая трудные толчки пораженного сердца. Единственное она не могла запретить — думать. И Фокей Нилыч, морща большой покатый лоб, думал.
В палате он был один. Пользуясь этим, больной настоял, чтобы на день окно раскрывалось, хотя было еще довольно холодно. Из дому ему принесли и поставили на тумбочке в ногах цветущую герань. В нескольких стеклянных банках стояли подснежники — они даже на вид были свежи и прохладны. Генка где-то в степи нарвал целую охапку. На противоположной от кровати стене Геннадий повесил по просьбе отчима репродукцию с репинских «Запорожцев». Входя в палату, Люба часто замечала, как смотрит на окаянно-веселых запорожцев Фокей Нилыч и тихонько улыбается. Ей он казался тоже вольнолюбивым казаком-рубакой, пораженным в отчаянной сече с врагами, только его бритой крупной голове не хватало оселедца, а горбоносому лицу — длинных усов. Люба поняла, что Азовсков любил в жизни красивое, веселое, радующее. Не случайно конь его ходил под жаркой дугой-радугой в ярко-красных оглоблях!
Но временами она заставала его другим. Он лежал задумчивым, хмурым, взгляд замирал на какой-нибудь одной точке. И Люба догадывалась, что в эти минуты Фокей Нилыч размышляет о том, как отнеслись к его письму в райкоме, как «отреагировали» на него. Фокей Нилыч сообщал о жизни комсомольской организации в обком партии, писал еще дальше, но заявления неизменно возвращались в райком со стереотипным предписанием: разобраться на месте и принять меры. И меры принимали! К нему, Азовскову. В этот день из Степного приехала завотделом районного комитета и резко сказала: «Если вы, Азовсков, не прекратите злопыхательскую возню, то вопрос будет стоять об исключении вас из партии! Партии нужны бойцы, а не штабные стрекулисты...» Нервный, горячий Фокей Нилыч сплеча махнул, словно шашкой отрубил: «Дура ты! Думаешь, дураки нужны партии?»
А часом позже почувствовал тошноту и резкие боли в сердце и левом плече. Люба определила — инфаркт... Поражение сердечной мышцы было неглубоким, и Азовсков быстро поправлялся. Люба считала, что через месяц она выпишет его из больницы. Теперь ему уже разрешалось двигаться на постели, читать. Но в середине апреля, когда серый ноздреватый снег лежал лишь в оврагах, а луга стали желтыми от цветущих лютиков и гусиного лука, Любе пришлось немало поволноваться за здоровье Фокея Нилыча...
Она сидела в правлении, ожидая попутной машины, чтобы проехать по бригадам, начавшим весенний сев. В своем кабинете по телефону разговаривал председатель, а рядом с ней нащелкивал-пощелкивал косточками счетов бухгалтер, а потом раздраженным движением ладони резко сдвигал вправо все сразу — что-то у него не сходилось.
Люба смотрела на улицу. Тополя и вербы возле домов покрывались молодой ярко-зеленой листвой, еще мелкой, не развернувшейся. Если хорошенько вслушаться, то услышишь, как лопаются почки. Форточка натягивала в комнату их острый клейкий запах, запах свежей листвы и сырой улицы. А за поселком, на голубизне неба — акварельные мазки белых облаков.
«Хорошо сейчас в степи, — мечтала Люба. — Жаворонки поют, журавли в небе курлыкают. Зелено кругом. Мама уже проводила, наверно, папу в бригаду. Теперь до окончания посевной не заявится в хату. Надо написать домой, поздравить с полем».
В правление быстро вошла Лаптева. Видать, очень торопилась, с трудом переводила дыхание. Люба забеспокоилась:
— Что-нибудь случилось?
— Нет... Впрочем, да... Посоветоваться надо. — Лаптева покосилась на бухгалтера, шепнула: — Давайте выйдем, Любовь Николаевна...
На улице она протянула Любе сложенный вчетверо лист бумаги:
— Фокей Нилыч...
Строчки были неровные, буквы то разъезжались, то наползали одна на другую — Азовсков писал лежа и торопливо:
«В первичную партийную организацию
Лебяжинского колхоза
от Азовскова Ф. Н.
ЗАЯВЛЕНИЕКак вам, дорогие друзья мои и товарищи, известно, я всегда прямо стоял за справедливость и честность. Прямо и правильно стоять в жизни, сами понимаете, нелегко. Крепко понял я это, особенно когда хотел раскрыть болтуна из болтунов, обиженного богом Острецова. Я не раскрыл и ничего не добился. Меня наказали жестоко, а все мои заявления в высшие инстанции прибывают обратно в Степной. В общем, дорогие товарищи, я понял, что сил у меня уже нет. Да и вера в идеалы подшатнулась. И лучше, решил я, жить тихо и в тени, в тени меньше потеешь. И еще, решил я, не надо мне ждать исключения из партии, как пообещала мне товарищ Михеева, лучше мне самому добровольно уйти. Поэтому я и пишу вам это заявление, а вы без моего присутствия отчислите меня из партии. По-русски, проще, значит, — исключите по собственному моему желанию! Останусь беспартийным большевиком. По крайности, не будут меня на всяких бюро и собраниях прорабатывать, ежели скажу дураку — дурак, а болтуну — болтун.
К сему Азовсков».Люба поняла, какое нервное потрясение, какой надлом должен был перенести Азовсков, чтобы написать это заявление. За каждой строкой сквозила боль человека, во всем разуверившегося, на все махнувшего рукой.