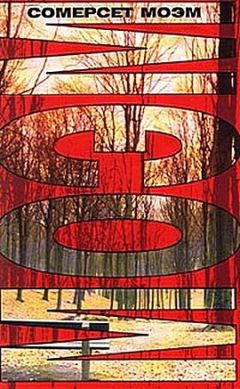— Гляньте! — беззвучно зашевелил старшина губами. — Когда еще солнце встанет, а у них уж подъем. Сейчас побудка происходит… — Он на цыпочках отступил в сторону и только там трубно высморкался. — Это семья! Все четыре килограмма — рекордисты!
— Как «четыре килограмма»?
— Ну, четыре килограмма пчелы. Сорок тысяч работников. Я им еще граммов триста добавлю. И в первом улике рекордисты. Тоже подъем играют…
Прислушиваясь, он, как петух, поворачивал голову набок.
— Зато в сороковом… Ну, с-симулянты проклятые! Солнце вон аж куда подымется, светит им прямо в леток, а они еще спят, хоть каблуком по крыше бей! И работу бросают чуть не в обед… — Старшина злобно сплюнул. — Я из-за них со всеми соседями переругался. Все настаивают, что семьи от природы выводятся — какая работящая, а какая лодырь. А я настаиваю, что — кровь с носу! — можно причины раскрыть и на свой вкус делать семьи! Пчеловоды мне тычут в нос практику. Верно, на практике при всех одинаковых условиях одни семьи — рекордисты, другие — лодыри. Я это сам испытал, а не верю… Какие — еще не скажу, а должны быть причины. Что хотишь, это диалектика!
Заря давно занялась, но лучи не могли пробиться через хмарь, степь светлела в мягком, расплывшемся тумане. Может, к дождю.
Сильно и приторно тянуло цветущим подсолнухом. Пчелы просыпались, одна за другой гудели в воздухе и, сделав над пасекой облетный круг, уходили по-над дорогой.
Все было так мирно, покойно, что глаза невольно искали сгорбленного, беззубого деда в валенках, в дырявой войлочной шляпе. Вот он уже полчаса раздумчиво почесывает седую грудь старой рукой; пчела ползет по морщинам руки, а дед глядит, все глядит рассветное поле и всей устоявшейся душой понимает и утро, и сток, раскрывший лепестки навстречу утру, и пчелу, летящую на этот цветок…
Старшина вскинул руку, щелкнул ногтем по стеклышку часов:
— Без трех пять.
Я не выдержал:
— Товарищ Смирдов! Как вы, такой молодой, отписались на пасеку?
Он движением головы бросил кубанку на глаза, поиграл ремешком планшетки.
— Вы, конечно, не обижайтесь… у вас отстающие взгляды, читаете: «Подумаешь, улики — большое дело!..» А вы, — ноздри старшины стали резкими, — вы лучше б поинтересовались, чего нового в нашей технике да за какие задачи мы боремся. А то даже удивительно…
— Вы напрасно, товарищ Смирдов…
— Чего напрасно? Считаете, что раз пасека — чухайся помаленьку! А что мы природу реконструируем, этим интересовались? — Раздражаясь, он хлопнул по одному, по другому карману бриджей, выдернул прозрачный плексигласовый портсигар, но, забыв, не открыл его. — Например, поинтересовались, что пчелы тыщи лет роились, когда им надумывалось? Что за сколько дней до роения работали абы как, все митинговали. Как в Лондоне!.. А теперь мы указываем — выделяем семьи, когда нам требуется. А не требуется — пр-ресекаем роевое настроение!
Он открыл портсигар, стал было набирать табак и снова не набрал.
— И во внутреннем распорядке пчелы берем руководство! Считалось, что матка в семье — единственная, нераздельная царица; соседскую матку до пчел не то что близко, на дух не подноси — убьют: природный закон… А у нас свой закон! Достигли, что по две матки живут в одном вулике, — вдвое размножают кадры! И культурную гигиену ввели пчеле — дезинфекцию, вентиляцию! И в производство ее вникли — массовым порядком ставим ей искусственную вощину.
Отсюдова и результаты. Не буду хвастать, а что взял двести пудов меду, то взял! Это еще у нашего руководства наплевательство на пасеку, — не достали семян фацелии, а то б засеял, привез пчелу на цветы, с закрытыми б глазами взял пятьсот пудов. Я всем глотки поперерву, а на будущий год засею фацелию!..
Старшина наконец скрутил папиросу, чиркнул зажигалкой.
— А вы все считаете: пасека — тишь да гладь… Вы ж не проверяли наш план по воску? Не проверяли.
Затягиваясь, он понемногу отходил, говорил спокойнее и тише.
— Проверьте… А ведь воск необходим и в авиации, и в автоделе, и в электрификации, и еще в тридцати семи производствах, и в пятилетнем плане выполняет роль! Скажите, так?
— Ну, так.
— Извиняюсь, зачем «ну»? Просто «так»! Вот… мы с этим, — он кивнул на спящего мальчишку, — из пятидесяти семей выводим еще двадцать, обязуемся, что с весны семьдесят полетят за взятком!
— Выполните?
— Это не постановка: «Выполните, не выполните»… По углю спущен план — Донбассу другое в голову не придет. Так и по чугуну, по стали. А по пчеле иначе решать? Что, пчела уголь не роет? Брехня! Без урожая и шахтеру, и кому угодно не обойтись. А кто способствует урожаю? Пчела! Мед — дело пятое, надо дальше носа смотреть: пчела как опылитель — бог в повышении урожая!
Погода разгуливалась. Влажные тучи, нависшие с утра, испарялись, солнце съедало последние остатки тумана, и сухой ветер начинал рябить метелки устоявшегося за ночь бурьяна.
— Бог! — повторил старшина и, потрогав термометр, разбудил мальчишку: — Петя, накоси травы, поскладай на улики. Видишь, днем припечет.
На пасеке рос гул. Пчелы выползали из летков, взвивались, плетя на солнце золотую пряжу.
Старшина взвесил контрольный улик.
— Ушло семьсот двадцать граммов…
— А сколько надо?
— Столько и надо. Летом, в разгар цветения, уходит по два килограмма, половина семьи.
— Что ж остальные делают?
— Мало ли дел?! Кормилицы (это из молодых, что еще в поле не летали) кормят детку: три дня молочком, три медом с пыльцой, на шестой печатают детку крышками, а матке — той все время молочко; уборщицам за помещение ответственность: крошка воску оборвалась, либо пчела померла, присохла — убери. И не у порога кидай, а вынеси за территорию. Другие тянут вощину; третьи, когда жара, стоят коло летка, производят крыльями вентиляцию; какие несут караул; а граммов пятьдесят, полтыщи штук — исключительно при матке. Она червит — за ней печатай ячейки, создавай обстановку… Приемщицы — на приемке нектара. Встреть прилетную пчелу, с ее зоба перекачай в свой и лей в соты: какую ячейку запакуй медом, какую пергой,[99] или оставь порожней — для детки.
Невольно открыл я рот, слушая о давно известной великой работе пчел.
— Здорово это у них!
— Да, постановочка крепкая, — соглашается старшина, — а все ж подходи критически, поправляй пчелу.
— В чем же?
— Во многом. Требуется новые семьи выделять организованно, не допускать самотека; воровство меда между уликами пресекать. Воровство, как и у нас, слабый участок — туды его в резинку!.. И с трутнями слабый. С них же работы ноль, а жрут впятеро. Матке требуется один трутень, чтоб раз в жизни ее оплодотворить — и все. А в семьях без соображения кладут и кладут трутовые яички — вроде их на базар везти. Надо ж вмешаться. Сейчас буду их в четырнадцатом срезать — посмотрите.
Он шагнул к улью.
— Сетки я не держу, так что вы уж так стойте. Не обмахивайтесь, если какая торкнется…
Он взялся за крышку, чуть наддал вверх и, отведя в сторону, снял. Возросшее в первую секунду гуденье спало, я заглянул в кипящий сорока тысячами жителей пчелиный дом. Пчелы ходили по рамкам и стенам, к моему удивлению, довольно спокойно кружились в воздухе. На обрез стены выползла пара толстых, медлительных трутней.
— Разъели морды на даровых харчах…
Нагруженные нектаром работницы прилетали с поля и, хотя улей был открыт сверху, влезали через леток.
— Дисциплинка! — залюбовался старшина. — Знают, куда лезть.
Он вынул, поднял перед собой усаженную пчелами восковую рамку. Желто-белая, она светилась рядами геометрически выточенных шестигранных ячеек. Часть их была залита медом и просвечивала на солнце, часть темнела в центре маленькими пятнами.
— Это и есть детка — будущая работница. Упаковочка, опечаточка… Культура!
Верхний же ряд ячеек, прилепленный к самой раме, отличался крупной величиной и неправильной формой.
— А вот это трутовые…
Старшина отнес рамку к раскладному столику, около которого с парующим чайником стоял Петька, и, окунув в кипяток нож, провел по «трутовому» ряду.
— Гитлер капут.
Пчелы облепили пальцы старшины, одна продолжала жужжать, ходила по лицу, но не жалила.
— Что, они вас знают?
— Пчеле не дано знать человека. Просто стой по команде «смирно», даже по глазу ползет — не моргни, и все дело.
— А ведь говорят, что кому пчела дается, а кому нет.
— То симулянты говорят! Загубят, сволочи, пасеку и оправдываются.
Старшина загнутым на конце шильцем вытащил резаных трутней, поставил рамку на место, вынул другую, густо облепленную пчелами, и вдруг зашипел:
— Ч-ш-ш! Гляньте, гляньте, матка червит…
Сперва я ничего не понял. На рамке шевелился, полз живой клубок.
— Да вот же она, посередке…