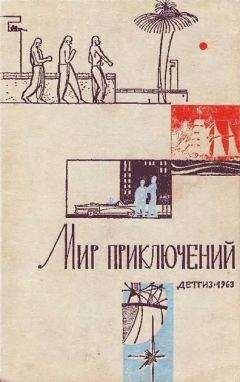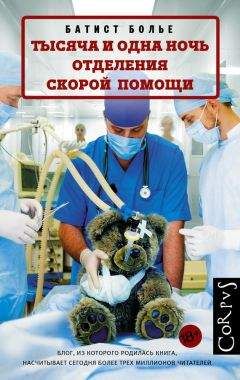Он вскочил, ударившись головой о крышу, и перебросил летчика на ту половину кабинки, где сидел с ножом в руке Лаврентии Бабурян.
Голос у Жоржа срывался, слова получались искаженными:
— Гарник… Эй, ты… Что случилось?
Жорж перегибался вперед, но видел только подстриженный затылок приятеля и его посиневшие от натуги пальцы, вцепившиеся в руль.
Не оборачиваясь, Гарник выдавил:
— Не пойму, что с машиной… Не получается у меня!
— Не умеешь, тварь! Только хвастался!
Бабурян вдруг начал плакать. Делал он это странно — тянул бесконечно одну ноту: у-у-у… у-у-у.
— Замолчи!
Гарник повернул к сообщникам бледное лицо:
— Больше не могу… Не понимаю причину…
— Погибнем из-за тебя!
Подняв голову, Грант увидел, что маленький бандит торопливо давят на педали, лихорадочно перебирает рычаги. Вот он набирает высоту и тут же, испугавшись, отклоняет ручку от себя и переводит машину на снижение. Торопится, торопится, ищет! Самолет страшно накреняется. Бандиты мечутся на своих местах и кричат, кричат. Это паника. Слов уже не разобрать.
Но ведь все дело только в том, что сидящий за штурвалом не обращает внимания на включенный рычажок триммера. Надо убрать триммер — и самолет снова подчинится воле человека.
Неужели они этого не видят?
Нет, не видят! Они не понимают машину.
Высота сейчас всего сорок метров…
— Мы разобьемся! — кричит Грант, заглушая шум мотора и вопли бандитов. — Пустите меня к штурвалу!
Они все оборачиваются к нему, смотрят на него с надеждой.
— Ты согласен? Ты с нами?
— А что же делать… Ваш лететь не может… Погибнем, к черту… Пока не поздно, я возьму управление…
Гарник торопливо освобождает место. Руки, только что терзавшие летчика, душившие его, помогают ему теперь побыстрее устроиться на пилотском сиденье. Он слышит рокочущий возле самого уха радостный голос Жоржа:
— Конечно, зачем же подыхать раньше времени… Он же умный парень… Мы с ним еще в Париже погуляем…
— Отодвинься, — требует Грант. — Ты мне мешаешь!
— Он будет из всех нас самый главный, — журчит тот же голос. — Мы ведь только пассажиры, а самолет привел летчик… О нем знаете как заговорят во всем мире… Деньгами его осыплют…
Один против троих. Нет, это неправда, теперь Грант уже не один. У него в руках самолет. Послушный друг. Он верно служил Гранту пять лет, послужит и сейчас, в самую трудную минуту жизни. Теперь будем считать по-другому — двое против троих!
Грант выравнивает машину, набирает высоту и осматривается.
Жорж кладет руку ему на плечо:
— Ну, что же ты?
— Надо ведь мне сориентироваться… Где граница? Куда сейчас лететь?
Пилот спокоен. Лицо у него в крови, но глаза смотрят зорко и руки властно лежат на руле. И голос у него не дрожит:
— Вот соображу, и полетим…
— Да вот она, граница! Ты что, не видишь?
Ножи у них наготове. Острие одного финского ножа Грант чувствует сзади у плеча, острие другого — совсем рядом, у правого бока. Неужели теперь, когда появилась надежда на жизнь и на победу, все-таки придется умереть?
— Не вижу… Не вижу границы…
— Ты что, хитришь со мною? Убью!
— Не путали бы вы меня, а?
Надо высмотреть на земле подходящее для посадки местечко. Но выбора нет. И времени нет. Придется рискнуть… Грант кричит:
— Не будет по-вашему! — и включает рычаги.
Может, они его и не услышали, но угадали его намерения в ту же секунду. Нож впился ему в плечо. Нож пронзил правый бок. Нож ударил в живот.
Согнувшись, стиснув зубы. Грант ввел самолет в пике. И одновременно — резкий разворот. Машина накренилась. Могучая сила отбросила бандитов назад, прижала к сиденьям. В этой борьбе самолет был на стороне пилота. И, теряя сознание, истекая кровью, пилот на огромной скорости повел машину вниз.
«Выручай меня, мой „Як“!»
Неба уже не видно. Скрежещет мотор. Какой огромной становится земля!
Десять метров осталось… Теперь только три метра!
Из последних сил Грант потянул на себя штурвал. Если бы удалось вывести самолет из штопора…
Удалось!
Но разве это приземление? Нет, это страшный удар. Это конец. Все черно вокруг.
Все черно вокруг…
То, что отняло у люден столько сил и нервов, завершилось катастрофой и вместило в себя четыре жизни и четыре судьбы, было точно измерено и заняло шесть минут.
С аэродрома было видно падение самолета и дежурный диспетчер записал в журнале, что самолет «Як-12 А» с бортовым номером «348», взлетевший в 8.05, уже в 8.11 рухнул по неизвестной причине на виноградинки…
Ближе всех к месту падения самолета оказался колхозный сторож.
Он услышал ужасный гул и взглянул на небо. В ту же секунду машина врезалась в землю, подняв тучу пыли. Еще несколько метров машина протащилась на брюхе, потом перевернулась и рассыпалась на гребне винограднике!.
Сторож побежал к месту катастрофы.
Первое, что он увидел, потрясло его. Из обломков выбрался человек, горестно вскинул руки кверху и пошел по траве, шатаясь и рыдая. Как потом выяснилось, это был Лаврентий Бабурян. Он пронзительно вскрикнул, упал на землю и тут же скончался. Сторож бросился к нему и только тогда заметил, что в канаве, неподалеку от самолета, лежат еще двое других. Оба были без сознания.
Старик стал кричать, сзывать людей. Но и без того к месту происшествия со всех сторон сбегались колхозники.
Впоследствии все они по-разному рассказывали о том, кто и при каких обстоятельствах первый увидел летчика. Точнее всех был сторож. Он услышал — в обломках что-то шуршит и быстро обернулся. На коленях, с лицом в крови, к нему полз летчик.
— Кто здесь? — спросил он, хотя был теперь от сторожа в трек шагах. — Помоги мне, дорогой брат…
И потерял сознание.
Утро было совсем еще раннее и очень свежее, и виноградник был залит солнцем…
С того времени, как Грант звонил Эмме, прошло чуть больше одного часа.
С того времени, когда Лаврентий Бабурян, теперь уже мертвый, расспрашивал Гранта о фруктах Ехегнадзора, прошло едва ли десять минут…
«Больной доставлен в клинику 10 сентября 1961 года в тяжелом состоянии. На теле в различных областях (грудь, голова, живот, правая рука, плечи) насчитывается девять повреждений — ножевые ранения. Особенно опасны для жизни ранения, проникающие в грудную клетку с повреждением плевры».
Так записано в медицинском заключении.
Приглашены консультанты. Проведен консилиум. В палату поставили еще одну койку — для матери. Ей разрешено находиться неотлучно возле больного сына.
— Профессор, — спрашивает она после консилиума, — мне хотелось бы знать, как вы оцениваете положение больного.
Она, конечно, волнуется, но это может заметить только очень опытный глаз. Говорит она тихо, неторопливо, руки опущены вдоль туловища. Глаза смотрят прямо в лицо собеседнику. И лишь голос, вдруг дрогнувший, да еще влажный блеск глаз выдают ее.
Этой женщине нельзя лгать.
— Положение серьезное. Ничего определенного сказать пока нельзя. Надеюсь, что обойдется. Чудо еще, что при падении он не получил почти никаких увечий…
На другом конце города, в тюремной больнице, врачи и сестры в это время хлопочут около двух других пострадавших при полете и аварии. Сюда также приглашены консультанты. И они также стараются вылечить преступников, как и героя пилота. Все участники рейса, так страшно сошедшиеся друг с другом на шесть трагических минут, — сейчас только «больные». И медицинские заключения в тюремной больнице бесстрастно фиксируют:
«Больной Жорж Юзбашев — тяжелые ушибы на всем теле, переломы левой руки, обеих ног…»
«Больной Гарник Мисакян — сотрясение мозга, переломы левой руки, левой ноги…»
Грант открывает глаза в палате, уставленной цветами. В широкое окно щедро льется ласковое солнце — сентябрьское, но еще горячее. Мать сидит рядом с ним. Как хорошо!
— Мне очень хорошо, мама…
— Не надо много говорить. Ты еще слабый.
— Но я сказал пока только четыре слева!
— И хватит. Ты должен поправляться.
— В тот день… ну, после возвращения из полета… я должен был позвонить по одному номеру…
— Этот номер уже знает, почему ты не смог позвонить. Этот номер прислал тебе цветы — вот они. И записку… вот она! Этот номер очень добивался разрешения подежурить около тебя в палате. Но к тебе пока еще никого не пускают.
— Мама, я хочу, чтобы ее пустили…
— Хорошо, сынок, пройдет еще два — три дня, и к тебе пустят всех твоих друзей…
— И Эмму!
— Всех, кого ты захочешь видеть…
А к Гарнику Мисакяну и к Жоржу Юзбашеву никого не пустят. Первый человек, которого они увидят после врачей и сестер, будет следователь. Кусая руки и плача от злости, Мисакян скажет ему: