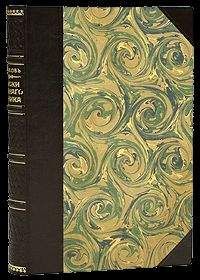…Неслышно плывут точеные головы оленей над мелким ельником, вдоль безмолвствующей линии стрелков; к дальнему флангу, где стоит на номере самый страстный из наших фотолюбителей. Какая буря теперь в душе его! Фотоаппарат на груди, и три красивейших зверя неспешно скользят в стеклянной глубине «телевика», но дисциплина охоты повелевает не двигаться. Тот, кого мы ждем, тоже умеет ходить неслышно, и появление его часто внезапно…
Под тяжелым копытом звонко ломается морозный сушняк, и не надо гадать, чей вызывающе неосторожный шаг будоражит лес, заставляя сорок яростно стрекотать. Так ходит по лесу лишь кабан. Вот она, торпедообразная, в черной щетине туша на сухих сильных ногах. Тяжелый клин головы угрюмо опущен, сверкают маленькие злые глазки да желтые ятаганы клыков. Страшен секач на вид, и не зря столько былей и небылиц о свирепости его ходит среди охотников. Впрочем, тяжело раненный, загнанный преследователями, он имеет привычку бросаться назад по собственному следу, ничего не видя в кровавом тумане, и тогда лучше не стоять на пути отяжелевшей клыкастой торпеды…
Вспомнился веселый рассказ егерей, как однажды приехали в хозяйство иностранные гости — опыт перенять, побывать на русской охоте, — и повели их в самые кабаньи дебри. Позже гости признались, что наслышаны были о скудости охотничьей фауны среднерусской полосы — иное дело Сибирь или Север! — и втайне подумывали, что прогонят перед ними для видимости камуфлированных поросят с какой-нибудь ближайшей свинофермы, в которых и стрелять-то грешно. При первом загоне стрельбы действительно не получилось: ошалелые стрелки не смели поднять ружей, когда мимо с яростным хрюканьем пронеслось большое стадо косматых вепрей, — боялись обратить на себя дикую, сокрушительную ярость стада. Одного из незадачливых охотников полчаса снимали с кривой березы — удивительно, как он в полушубке и валенках вознесся почти на десяток метров по ее гладкому стволу!..
Мы с соседом внимательно следим за секачем, и — то ли почувствовал наши взгляды, то ли лесные сквозняки донесли до него враждебный запах — он замер, затем издал короткий угрожающий хрип — и тараном в чащобу: лишь треск сухостоя обозначил его путь в болота, туда, где на стеклянной корке апрельского наста начнет свой первый весенний танец древний глухарь…
Легкое разочарование возникает в душе вместе с расслабляющим чувством конца облавы. Похоже, загонщики подняли последнего зверя на этом участке, а того, которого ждем, здесь и в помине не было или проскользнул он за флангом стрелковой линии. Ведь первый загон — и мы это знали — проходил в беднейшем урочище хозяйства. Но еще не просигналили отбоя, еще заряжены ружья, еще рано отмахиваться от обнаглевшего вконец мороза, хотя щеки становятся деревянными и руки не ощущают тяжести ружья. Опять синица крутится на ветке в полуметре от глаз, и рябчик шевельнулся в еловой кроне, высматривая приближающихся людей и не подозревая, что человеческие глаза давно следят за ним.
Но и мы еще не ведали, что в эту последнюю минуту облавы в недалеком ельнике поднялся с лежки могучий зверь, едва различимый в наряде косматого серого плюша среди лесной пестроты. С ним поднялось целое стадо, и он, мгновенно выслушав окрестный лес локаторами ушей, повел сородичей туда, где особенно тихо — на линию стрелков.
…У нас было право на один выстрел. И не так уж важно, кому выпал счастливый номер: выстрел был действительной необходимостью — вот что всего дороже охотнику. Ведь бескормица и истребительные болезни зверей, неизбежно возникающие там, где плотность дичи слишком высока, страшнее браконьеров и даже волков. Хотя, впрочем, первые мало уступают вторым.
…А спутник мой мирно спал, сладко причмокивая во сне, — быть может, снилась ему рыбацкая удача, в которой я-то окончательно разуверился, как и в охотничьей. Тринадцатый наш костер сонно тлел, роняя слабое тепло и рубиновый свет во влажную темень лесного распадка, и казалось, угли весело посмеиваются сквозь легкий пепел…
Видно, не дано мне было уснуть в тринадцатую ночь на Хопре — одну из тех ночей, когда думы оказываются сильнее усталости и лесного воздуха. Или все же бессонницу вызвали огорчения от несбывшихся надежд? Тринадцать дней мы тщетно полосовали спиннингами воды Хопра — казалось, какой-то недоброжелатель заворожил наши изящные блесны, даже те, что мой спутник и капитан нашего «судна» собственными руками вырезал из старинного серебряного подноса, найденного им где-то в развалинах. На эти серебряные блесны щуки, окуни, жерехи, даже язи бросались в самый мертвый сезон, а тут — словно отрезало, хотя прозрачные хоперские воды богаты рыбой. Одну за другой хоронили мы на коряжистом дне реки серебряные самоделки. Осталась последняя. И было лишь два злополучных выстрела за тринадцать дней… Невезение — не беда на охоте, беда — самолюбие. Полстраны ведь проехали ради такого путешествия. Опять же, встретят у последнего причала земляки моего капитана, заглянут в пустую лодку, начнут перемигиваться: еще те, мол, охотнички, одним словом — спортсмены. Казаки народ зубастый… Вертелась в голове задиристая частушка, которой провожали нас на одном из случайных причалов, во владениях местного дома отдыха, населенного в осеннюю пору одшши женщинами, где и нас уговаривали отдохнуть денек-другой, да не уговорили — мы уже втянулись в тяжкую работу гребцов и боялись разнежиться на берегу, что грозило полным срывом путешествия, — и, отчаливая, только смущенно улыбались в ответ на звонкий голос с берега:
Приплывай ко мне в субботу,
Я найду тебе работу:
Буду юбки полоскать,
А ты на берег таскать.
Знать бы о подстерегающей нас чертовой дюжине, так и задержаться было бы не грех. А теперь жди у конечного причала новой припевки — их на всякого незадачливого заготовлено.
Ай, чук-чук-чук,
Наловили парни щук.
Наварили — хмурятся:
Оказалось — курица.
Что ж, одно, по меньшей мере, есть утешение: мы прошли путь до конца, терпеливо одолев все изгибы самой извилистой на земле речки. Не каждый, наверное, выдержит каверзной дороги, которая и дважды и трижды в день возвращает тебя к месту, покинутому на заре. Мы выдержали.
…А к утру ночь стала еще чернее, в ней что-то происходило такое, чего не случалось во все двенадцать минувших. Воздух словно уплотнился, он жил, шевелился и разговаривал… Да это же крылья! Сотни крыльев шелестели над верхушками деревьев — шли на юг утиные стаи, стало слышно, как падают на речной плес тяжелые птицы… Я ущипнул себя за нос — все оставалось по-прежнему: и тугой шелест пролетающих косяков, и плеск в черном заливе. Вот она, северная утка! Где-нибудь за шестидесятой параллелью пали снега, покрылись ледовой корой озера и реки, и началось великое переселение крылатого царства в теплые страны. Лови, охотник, момент удачи — он короток.
Теперь бы луну поярче, но и весной и осенью пролетная птица чаще идет в безлунные ночи. Ждать, терпеливо ждать рассвета, заставить себя уснуть, чтоб ненароком не подшуметь отдыхающих птиц, и тогда, возможно, одна-другая стайка задержится на дневку в ближних камышах.
Удивительно, но именно тревожащий душу посвист и шорох утиных крыльев навеяли успокоение — глаза начали сладко слипаться.
…То ли сам я в забытьи бросил в костер новую горсть сучьев, то ли под горкой углей вызрело пламя, но вдруг выросли передо мной длинные огненные человечки, начав замысловатый дикарский танец. Потянуло низинным холодом из лесных глубин, согнулись мучительно, едва не разрываясь в поклоне, огненные люди, лес вздохнул, придвинулся ближе, темный и душный, словно сырая шуба. Вмиг сгрудились испуганно красные человечки в костре, сплелись в одного, большого. Он выпрямился, потускнел, оброс бородой дыма, шепеляво прошелестел: «Да получит дающий! А что дал ты, охотник, лесам и водам взамен взятого у них? Убитым тобою зверям и птицам нет дела до твоих рефлексий, а за одного подстреленного волка природа расплатилась с тобой сполна. Может быть, хватит трофеев?.. Как говорил раньше, и о душе подумать пора…»
И приснился мне остров посреди Обского моря…
Слышал я, будто остров тот нынче почти исчез — гулевые волны домывают его песчаные берега. Но лет пять назад он еще горбатился над серо-зеленым разливом воды, словно гигантский кит, выброшенный бурей на мель. Это хорошо теперь известно — острова рукотворных морей часто гибнут под ударами волн, и сами моря мелеют, растекаясь по степи — что блин по сковородке. Густою щетиной покрывали тот остров сосны, частый березняк да осинник, и тихо, уютно бывало в непогоду под пологом древесной шубы. На острове жили зайцы, косули, тетерева и переселенцы из далекой Европы — серые куропатки. Вдали от четверолапых хищников, за широкой полосой воды, они быстро множились, остров был заказником и воспроизводственным участком, о чем предупреждали щиты на всех его оконечностях.