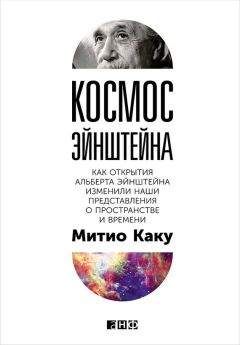По всему по этому за Колей закрепилась репутация «везунка», которому легко все дается. Но ненадолго. Вскоре на одном из семинаров он усомнился по поводу провозглашенных тогда планов на 20 лет вперед, сказав, что некоторые из них нереальны. «Вы считаете, что намеченные цели недостижимы?» — удивился преподаватель. «Почему же, — отрезал Везенин. — Мы великая страна и можем достигнуть любых целей. Но надо заранее знать, какую цену мы за это заплатим. Может статься, что цена окажется слишком высокой и победа обернется поражением, как бывало в истории не раз». — «Вы высказываете типично оппортунистические взгляды, Везенин, — пошутил тот. — Вы что, не верите в творческие возможности нашей системы?» Тут бы Коле и заткнуться, промолчать в тряпочку, а он запальчиво ответил, что «вера» — это ненаучный термин, а что касается творческих возможностей, то ведь ими тоже следует пользоваться разумно, а не транжирить как попало. Если забрать весь мед из улья до капли, то сегодня у нас его будет больше, чем вчера. Только вот завтра все пчелы передохнут и меду уже не увидишь. Слово за слово, они буквально поцапались тогда с этим преподавателем. Из–за этого потом Везенин с трех заходов так и не смог сдать экзамена в конце семестра. Но его не отчислили, а позволили перейти на заочное. Он по–прежнему жил в общежитии и работал там же, в котельной. Стипендии лишился, но зато и на лекции ходил, когда хотел. Ему даже завидовали — у него было теперь что–то вроде свободного расписания.
Диплом он даже на полгода раньше защитил, чем его бывшие однокурсники, и сразу после защиты его взяли в целевую аспирантуру в одном вновь организованном институте. Сработал опять же отзыв Лужанского, который и дал рекомендацию. К тому же, как объяснял сам Везении, ему просто повезло — набор производился рано, многие еще не защитились, а он уже получил диплом. Опять решили, что он
«везунок». Даже изгнание с дневного на заочное в конечном счете ему на пользу пошло.
У него была возможность и после аспирантуры зацепиться там, но Везении неожиданно отказался. И хотя к тому времени женился и имел прописку в Москве, вдруг ни с того ни с сего уехал с молодой женой в Новосибирск. Когда спрашивали, зачем, он (по рассказам) оправдывался: «Понимаешь, старик, скучно там. Дела нет, а так —
одесский шум, похожий на работу. За два года ни хрена не сделал, только зря штаны просиживал и деньги получал». — «Но ты понимаешь, какие у тебя были возможности продвинуться?» «Продвинуться, ничего не делая? — переспрашивал он. — У меня же не было возможности работать».
Вранцов так и не понял этого хода Везенина. Вернее, понял, что тот чего–то «темнит», не хочет раскрывать своих карт, своих истинных мотивов. Тем более, что самые опытные, искушенные раздумчиво комментировали: «А что, молоток Коля! Темы в Сибири перспективные, сейчас к этому региону повышенное внимание. Сделает диссертацию на местном материале — с ходу защитится. А там можно и вернуться в Москву». Но шел год за годом, а о Везенине ни слуху ни духу. Другие, эти же «умные головы», съездив два–три раза в научные командировки в Сибирь, выдавали диссертации на–гора, писали о местных проблемах книги, брошюры, статьи, а Коля словно пропал.
Как–то летом, будучи в отпуске в Мроскве, он позвонил Вранцову, пригласил к себе. Прежняя их связь давно прервалась, но Вранцов пошел. Оказалось, что Везении все–таки защитился в Новосибирске, преподает там, но в общем–то не на виду, в тени. Это подтверждало случайность его первых эфемерных успехов. «Не долго музыка играла…» Тем более, что другие, обзаведясь нужными связями, куда успешнее делали карьеру, и не где–то там, у черта на куличках, а в пределах Садового кольца.
В отпуск Коля приехал с женой и грудным ребенком. Ютились в коммуналке в Замоскворечье, в комнатке, доставшейся им по размену с родителями жены. Тесть у него тоже оказался полковником и тоже не строевым, а какой–то там интендантской службы. Так же любил рыбалку. Много оказалось сходного у них, помнится, даже острили по этому поводу. Везении обмолвился, что с родителями они не ладят, потому и живут отдельно. Те тоже стремились «помогать», но он решительно отказался, запретил вмешиваться в свои дела. Отсюда и пошли нелады, но Глаша на его стороне.
Глашей звали жену Везенина. Она продолжала заочно учебу (во ВГИКе, кажется, на киноведческом) и как раз сдавала летнюю сессию, а Коле приходилось возиться с малышом. Кормил его из бутылочки, менял ползунки, в общем, выглядел непрезентабельно. Правда, особенно несчастным он тоже не казался — жена хорошенькая, малыш упитанный, симпатичный бутуз, — но все равно это было скучновато, непрестижно, далеко от той активной деятельности, научной среды, успеха, о которых они все мечтали.
Среди детских бутылочек и коробок с молочной смесью валялись листы какой–то рукописи и торчала старенькая машинка. Оказалось, что Везении книгу задумал написать, а Глаша перепечатывает, ему помогает. Но в той простенькой, почти убогой обстановке все это выглядело несерьезно, какими–то химерическими мечтами. «Вы бы, прежде чем книгу писать, лучше бы диван себе поновее купили», —
подумал тогда Вранцов, но сдержался, ничего не сказал. Чего с
Коли взять — он, похоже, не отстал еще от прежних студенческих замашек, все тот же образ жизни вел. Но отношение сохранил к нему хорошее, даже предлагал помочь, похлопотать, если нужно, дельные советы давал. При этом, даже и сейчас помнит, была какая-то тайная радость, что вот Везении так мелко плавает, погряз в обывательском болоте, а казалось, далеко пойдет. Это словно бы придавало больший вес его собственным успехам — он как раз попал к Твердунову, и дела его заметно в гору пошли.
Тогда, в первые годы после выпуска, вообще было много сюрпризов: то вдруг однокашник, которого ни во что не ставили, женившись на дочке проректора, устраивался на кафедре, то другой, не умевший, казалось бы, и двух слов связать, выпускал объемистую книгу. Все куда–то стремились, пробивались, где–то печатались, защищались, иные были на пороге солидных должностей. То, что еще недавно на студенческой скамье казалось далеким, почти недостижимым, вдруг приблизилось, стало реальным — и публикации, и известность в своем кругу, и служба, и положение, и поездки за рубеж. Все это вызывало какое–то нервное нетерпение, боязнь отстать, потеряться, упасть во мнении других. Приходилось бегать, суетиться. Тем более, когда семья появилась и многого стало не хватать.
Он, Вранцов, тоже был на курсе не из последних, подавал надежды. Социологию он выбрал своей специальностью сразу же, как только ее на факультете ввели, выбрал, еще не зная толком, что это такое, но завороженный самим звучанием этого слова, очень современного и заманчивого, обещавшего какую–то особенную будущность, особенную судьбу. Социология была для них еще новой наукой, какой–то «терра инкогнита», и, как всякая неизведанная земля, казалась созданной для людей дерзких и мужественных. Это была наука будущего, без которой не мыслилось оно. «Широко простирает социология руки свои в дела человеческие», — шутливо переиначивали они слова Ломоносова, но в гордой уверенности, что так оно и будет.
Однако, получив свободный диплом, он обнаружил вдруг, что хотя заборы пестрят объявлениями о найме на работу, такая красивая специальность, как социолог, никому, собственно, не нужна, что станочники и бетонщики народному хозяйству в тысячу раз нужнее. Некоторое время он скитался без работы, перебиваясь случайными заработками. Пробовал самостоятельно, на свой страх и риск, писать книгу, но бросил. Был к тому времени женат, денег не хватало, да я нелегко было без всякой поддержки, без перспективы, в стол, по сути дела, писать.
В хреновое положеньице он тогда попал, хуже не бывает. Денег нет, престиж на нуле, будущее в тумане. Вика страдает, теща косится и ворчит — в общем, форменным неудачником сделался. Мать с самого начала была против этой его специальности и в каждом письме пеняла ему теперь. У себя в Миассе она такой специальности не встречала, даже не слыхала о ней никогда и потому не верила, что с нею можно хоть куда–нибудь устроиться, заработать на кусок хлеба себе. Всю жизнь до самой пенсии прослужив в одной и той же конторе, на одном и том же месте, она с ужасом представляла себе положение человека без места, человека, который не служит нигде. Это казалось ей противоестественным и позорным, вроде судимости или дурной болезни. Дед служил, отец служил, все родственники где–нибудь да служили. Дети их в университетах не обучались, а худо–бедно все тоже на службу устроились. Один только
Аркаша у нее оказался такой непутевый. Донимала в письмах слезливыми сетованиями и упреками, мол, надо было в другой институт, попроще, понадежнее, поступать.
В общем, вместо интересной и важной научной работы, о которой грезилось все пять студенческих лет, пришлось на первых порах заниматься какой–то унизительной поденщиной, считать каждую копейку и обивать пороги. Тоскливое было времечко, и настроение отвратное. Казалось, никому ты на свете не нужен, коптишь только зря небо — какой–то лишний, никчемный человек.