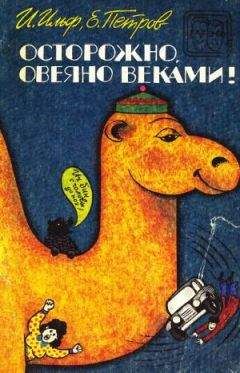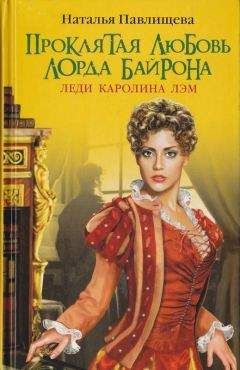– Да, – говорила девушка, – Микеланджело.
– Да, – повторял Вася, вдыхая запах ее волос, – Пракситель.
– Канова.
– Бенвенуто Челлини.
И опять кочевали по небу звезды, тонули в воде канала и туберкулезно светили к утру.
Влюбленные не сходили с подоконника. Мяса было совсем мало. Но сердца их были согреты именами гениев.
Днем скульптор работал, он ваял бюсты. Но великой тайной были покрыты его труды. В часы работы Клотильда не входила в мастерскую. Напрасно она умоляла:
– Вася, дай посмотреть мне, как ты творишь.
Но он был непреклонен. Показывая на бюст, покрытый мокрым холстом, он говорил ей:
– Еще не время, Клотильда, еще не время. Счастье, слава и деньги ожидают нас в передней. Пусть подождут.
Плыли звезды…
Однажды счастливой девушке подарили контрамарку в кино. Шла картина под названием «Когда сердце должно замолчать»; в первом ряду, перед самым экраном, сидела Клотильда. Воспитанная на Шиллере и любительской колбасе, девушка была необычайно взволнована содержанием картины:
«Скульптор Ганс ваял бюсты. Слава шла к нему большими шагами. Жена его была прекрасна. Но они поссорились. В гневе прекрасная женщина разбила молотком бюст – великое творение скульптора Ганса, над которым он трудился три года. Слава и богатство погибли под ударом молотка. Горе Ганса было безысходным. Он повесился, но раскаявшаяся жена вовремя вынула его из петли; Затем она быстро сбросила свои одежды.
– Лепи меня! – воскликнула она. – Нет на свете тела прекраснее моего.
– О, – возразил Ганс. – Как я был слеп. И он, охваченный вдохновением, изваял статую жены. И это была такая статуя, что мир задрожал от радости. Ганс и его прекрасная жена прославились и были счастливы до гроба».
Потрясенная увиденным, Клотильда пошла из кино в Васину мастерскую. Все смешалось в ее душе. Шиллер и Ганс, звезды и мрамор, бархат и лохмотья.
– Вася! – окликнула она.
Он был в мастерской. Он лепил свой дивный бюст – человека с длинными усами и в толстовке. Лепил его с фотографической карточки.
– И вся-то наша жизнь есть борьба, – напевал скульптор, придавая бюсту последний лоск.
И в эту же секунду бюст с грохотом разлетелся на куски от страшного удара молотком. Клотильда сделала свое дело. Протягивая Васе руку, запачканную в гипсе, она гордо сказала:
– Почистите мне ногти.
И она удалилась. До слуха ее донеслись странные звуки. Она поняла в чем дело: великий скульптор рыдал над разбитым творением.
Наутро Клотильда пришла, чтобы продолжить свое дело: вынуть потрясенного Васю из петли, сбросить перед ним свои одежды и сказать:
– Лепи меня. Нет на свете тела прекраснее моего.
Она вошла и увидела: Вася не висел в петле. Он сидел на высокой табуреточке спиною к вошедшей Клотильде и что-то делал.
Но девушка не смутилась. Она сбросила свои одежды, покрылась от холода гусиной кожей и вскричала, лязгая зубами:
– Лепи меня, Вася, нет на свете тела прекраснее моего. Вася обернулся. Слова песенки застряли на его устах.
И тут Клотильда увидела, – что он делал: он лепил дивный бюст – человека с длинными усами и в толстовке. Фотографическая карточка стояла на столике. Вася придавал скульптуре последний лоск.
– Что ты делаешь? – спросила Клотильда.
– Я леплю бюст заведующего кооплавкой № 28.
– Но ведь я же вчера его разбила, – пролепетала Клотильда, – почему же ты не повесился? Ведь ты же говорил, что искусство вечно. Я уничтожила твое вечное искусство. Почему же ты жив, человек?
– Вечное-то оно вечное, – ответил Вася, – но заказ-то нужно сдать. Ты как думаешь?
Вася был нормальным халтурщиком-середнячком. А Клотильда слишком много читала Шиллера…
– Так вот, Ляпсус, не пугайте Хиночку Члек своим мастерством. Она нежная женщина. Она верит в ваш талант. Больше, кажется, в это никто не верит. Но если вы еще месяц будете бегать по «Гигроскопическим вестникам», то и Хина отвернется от вас. Кстати, полтинника я вам не дам. Уходите, Ляпсус.
Могучая кучка. Золотоискатели
Как и следовало ожидать, рассказ о Клотильде не вызвал в бараньей душе Ляписа никаких эмоций.
С криками: «Жертва громил», «Налетчики скрылись» и «Тайна редакторского кабинета» в комнату вбежал Степа.
– Персицкий, – сказал он, – иди скорее на место происшествия и пиши в «Что случилось за день». Сенсационный случай на пять строчек петита.
Оказалось, что пришедший в свою комнату редактор нашел огромную ручку с пером № 86 лежащей на полу. Перо воткнулось в подножку дивана. А новый, купленный на аукционе редакторский стул имел такой вид, будто бы его клевали вороны. Вся обшивка была прорвана, набивка выброшена на пол и пружины высовывались, как готовящиеся к укусу змеи.
– Мелкая кража, – сказал Персицкий, – если подберутся еще три кражи – дадим заметку в три строки.
– В том-то и дело, что не кража. Ничего не украли. Только стул исковеркали.
– Совсем как у Ляпсуса, – заметил Персицкий, – похоже на то, что Ляпсус не врал.
– Вот видите, – гордо сказал Ляпис, – дайте полтинник. Принесли вечернюю газету. Персицкий стал ее проглядывать. Обычный читатель газету читает. Журналист сначала рассматривает ее, как картину. Его интересует композиция.
– Я бы все-таки так не верстал, – сказал Персицкий, – наш читатель не подготовлен к американской верстке… Карикатура, конечно, на Чемберлена… Очерк о Сухаревой башне… Ляпсус, писанули бы и вы что-нибудь о Сухаревском рынке – свежая тема – всего только сорок очерков за год печатается… Дальше…
Персицкий с легким презрением начал читать отдел происшествий, делавшийся, по его пристрастному мнению, бездарно.
– Столетний материал… Этот растратчик у нас уже был… Неудавшаяся кража в театре Колумба. Э-э-э, товарищи, это Что-то новое… Слушайте.
И Персицкий прочел вслух:
Неудавшаяся кража в театре Колумба
Двумя неизвестными злоумышленниками, проникшими в реквизитную театра Колумба, были унесены четыре старинных стула.
Во дворе злоумышленники были замечены ночным сторожем и, преследуемые. им, скрылись, бросив стулья.
Любопытно отметить, что стулья были специально приобретены для новой постановки гоголевской «Женитьбы».
– Нет, тут что-то есть. Это какая-то секта похитителей стульев.
– Маньяки.
– Ну, не скажи. Действуют они довольно здраво. Побывали у Ляпсуса, у нас, в театре.
– Да– Что-то они ищут, товарищи.
Тут Никифор Ляпис внезапно переменился в лице. Он неслышно вышел из комнаты и побежал по коридору. Через пять минут раскачивающийся трамвай уносил его к Покровским воротам.
Ляпис обитал в доме № 9 по Казарменному переулку совместно с двумя молодыми людьми, носившими мягкие шляпы. Ляпис носил капитанскую фуражку с гербом Нептуна – властителя вод. Комната Ляписа была проходной. Рядом жила большая семья.
Когда Ляпис вошел к себе, Хунтов сидел на подоконнике и перелистывал театральный справочник.
Это был человек созвучный эпохе. Он делал все то, что она требовала.
Эпоха требовала стихи, и Хунтов писал их во множестве. Менялись вкусы. Менялись требования. Эпоха и современники нуждались в героическом романе на темы гражданской войны. И Хунтов писал героические романы.
Потом требовались бытовые повести. Созвучный эпохе Хунтов принимался за повести.
Эпоха требовала много, но у Хунтова почему-то не брала ничего. Теперь эпоха требовала пьесу. Поэтому Хунтов сидел на подоконнике и перелистывал театральный справочник. От человека, собирающегося писать пьесу, можно ждать, что он начнет изучать нравы того социального слоя людей, который он собирается вывести на сцену. Можно ждать, что автор предполагаемой к написанию пьесы примется обдумывать сюжет, мысленно очерчивать характеры действующих лиц и придумывать сценические квипрокво. Но Хунтов начал с другого конца – с арифметических выкладок. Он, руководствуясь планом зрительного зала, высчитывал средний валовый сбор со спектакля в каждом театре. Его полное, приятное лицо морщилось от напряжения, брови подымались и опадали.
Хунтов быстро прочеркивал в записной книжке колонки цифр – он умножал число мест на среднюю стоимость билета, причем производил вычисления по два раза: один раз учитывал повышенные цены, а другой раз – обыкновенные.
В голове московских зрелищных предприятий по количеству мест и расценкам на них шел Большой Академический театр. Хунтов расстался с ним с великим сожалением. Для того чтобы попасть в Большой театр, нужно было бы написать оперу или балет. Но эпоха в данный отрезок времени требовала драму. И Хунтов выбрал самый выгодный театр – Московский Художественный Академический. Качалов, думалось ему, и Москвин под руководством Станиславского сбор сделают. Хунтов подсчитал авторские проценты. По его расчетам, пьеса должна была пройти в сезоне не меньше ста раз. Шли же «Дни Турбиных», думалось ему. Гонорару набегало много. Еще никогда судьба не сулила Хунтову таких барышей.