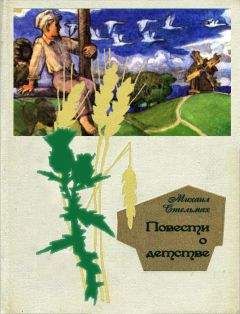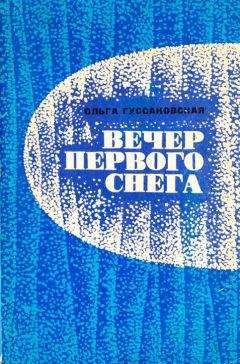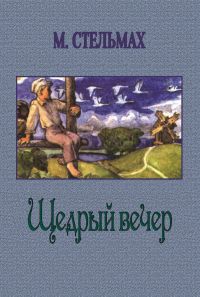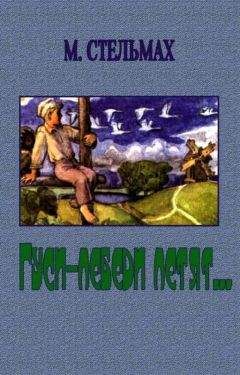— Спаси мою душу, Трофим… Сто рублей дам.
— А какими деньгами: серебром золотом или бумажными? — спросил дядя, зная характер старосты.
— Разными, Трофим, — выдавил скупердяй.
Дядя Трофим спас нашего свечкодуйя, но ни серебра-золота, ни бумажных денег от него не дождался, потому что тогда староста и так был введен в разорение: дядя вытащил его на берег без сапог. Вот если бы он еще и сапоги выхватил, тогда, может, и имел бы оплату от скупердяги. На это дядя Трофим заметил:
— Вот когда вам второй раз придется тонуть, не надевайте сапог…
К нашей кобыле сразу же прилипло прозвище Обменная, а мне пришлось пасти ее и приноравливаться к ней.
Уже солнце понемногу начало собирать росу, когда я доехал до Якимовской загородки. Она была обнесена веселыми свежеструганными жердями, за ними покато уходила под солнце высокая трава. Здесь алели крестики дикой гвоздики, красовался марьянник садовый, хвасталась белыми веночками ромашка и все с кем-то перемигивалась хрупкая метлица с длинными ресницами. А над травой возвышались беспорядочно разбросанные черешни, яблони, груши и косматые кислицы.
На другой половине ограждения стояли в убогих дедовских шапках старые дуплянки и с десяток ульев, а к ним прижимался свеженький курень. Я соскакиваю с лошади и вдруг замираю на заросшей травой дороге: под жердями с той стороны, на которую густолесье бросило тени, напевая, мелькнула женская фигура. Накинутый на ее плечи цветной платок, поднятые вверх руки и неторопливая походка напомнили мне утренние слова матери. Может, это и в самом деле не женщина, а само лето идет себе загородками, лесами и, напевая, наклоняется к земляничникам и грибным местам, поднимает руки к плодовым деревьям?
Женская фигура исчезает в лесу, а я начинаю присматриваться, не оставила ли она за собой какой-то след. У самой дороги показалась разбросанная кучка молоденьких шампиньонов, дальше кто-то распылил по траве землянику, а за изгородью на белой черешне сочно розовеют ягоды. Мне, может, еще долго пришлось бы рассуждать о том, кто прошел под лесом, но сбоку прозвучал легкий смех.
Я обернулся. У самой изгороди с лукошком в руке стояла черноволосая худенькая девочка лет восьми, глаза у нее карие, с каплями росы, румянцы темные, а губы оттопырились розовым потрескавшимся узелком и почему-то радуются себе. Так почему бы и мне не улыбнуться девушке? Я это охотно делаю, прищурив глаза, в которые насыпалось солнца.
— А я знаю, как тебя зовут, — доверчиво говорит девушка и двумя пальцами перебирает стеклянное с каплями солнца ожерелье.
— Не может такого быть.
— Вот и может такое быть, — показывает черноволосая свои редкие зубы.
— Откуда ты узнала?
— А зимой, помнишь?.. — прыснула она.
— Что зимой?
— Помнишь, как спускался на корыте с холма?..
Теперь мы начинаем смеяться оба, хотя мне не очень приятно вспоминать, чем закончился тот спуск. Но этого уже девочка не знает.
— Я тогда подумала: смелый ты!
— А чего же, — не знаю, что сказать, хотя и приятно становится от похвалы: нашелся-таки хоть один человек, который не осудил меня за тот спуск.
— Хочешь земляники? — протягивает мне полное лукошко, посередине скрепленное прутиком.
Кто бы не хотел полакомиться ягодами, но не подходит парню брать их у девочки, и я равнодушно говорю:
— Нет, не хочу.
— Бери, я еще наберу. Здесь ее много.
Тогда я сбиваю в лукошке верхушку и высыпаю ягоды в рот.
— Правда, вкусные?
— Вкусные. — Наконец пускаю самопасом в лес лошадь. — А как тебя зовут?
— Любой.
— И что ты здесь делаешь?
— За пасекой присматриваю.
— Сама?
— Сама-одна, — посеревшие губы девушки погрустнели, а бровки стали такими, как будто кто-то начал нанизывать их изнутри.
— А где же твои родители?
— Мать дома возятся, а отец пошли на закладку дома. Наверное, поздно придут за мной.
— А ты не видела, что за женщина недавно в лес пошла? — машу рукой на тот край загородки.
— В цветастом платке?
— В цветастом.
— Это моя тетя Василина, — сразу прояснилось лицо Любы. — Она так хорошо умеет петь и выводить. А дядя поедом ест ее за песни, чтобы не манила людей на голос.
— Вот как! — Опять отплыла от меня сказка, и стало жалко тетю Василину, которую угнетает вреднючий дядька. Лучше бы она была этим настоящим летом, что идет по земле и творит свои чудеса.
— Ты не хочешь посмотреть на наш курень? — трогает меня за рукав Люба.
— А что там есть?
— Ничего такого, но мне славно, а вечером уютно. Ты ягоды приехал рвать?
— Откуда ты знаешь? — удивляюсь я.
— Знаю, — таинственно говорит девушка. — Кто-то мне в лесу шепнул на это ухо.
— Кто же тебе шепнул на это ухо?
Мои слова смыли таинственность с лица Любы, и она, не выдержав игры, весело фыркнула:
— Марьяна сказала. Она вчера у нас рвала попу черешни и замолвила перед папом словечко за тебя. Правда, она славная?
— Очень славная, — соглашаюсь я.
— А видел, как она вышивает красиво?
— Видел.
— Она как-то у нас немного вышивала, и не девичью, а мальчуковую сорочку. Пожалуй, у нее уже есть молодой.
— И это может быть, — говорю я немного с сожалением, потому что жалко будет, если кто-то заберет Марьяну и я ее больше не увижу.
— А у нас дома есть козленок, — девушке все хочется рассказать мне. — Папа зимой нашел его с перебитой ножкой.
— А у нас автомобиль был.
— Автомобиль? — не верит девушка и широко смотрит на меня. — Может, не автомобиль, а чертопхайка?
— Нет, самый настоящий, на четырех колесах, автомобиль, — радуюсь, что мне есть чем удивить девушку.
Да и не только ее! Когда надо сбить спесь кому-то из хвастунишек, я всегда побеждаю их бывшим автомобилем, который был у нас целых два дня.
— Где же вы взяли самый настоящий автомобиль? — верит и не верит Люба моим словам.
— Пусть тебе отец об этом расскажет — он должен знать. — Говорю так, будто мне не хочется рассказывать о прошлогодней истории.
— Нет, нет, я хочу от тебя услышать, — заискрились глазки. — Это так интересно.
— Тогда слушай. В прошлом году, может, знаешь, по нашей дороге отступало на Польшу войско Пилсудского. Вот оно, убегая, и бросило подбитый автомобиль. Когда люди сказали об этом дедушке, то он побежал к нему, как молодой, а потом на волах привез эту машину к себе. Тогда было нам всем работы. Дедушка даже поесть не отходил от автомобиля, потому что никогда не имел дела с такой машинерией, а разобраться хотелось до конца.
— И не побоялся? — вскрикнула девушка.
— Чего же бояться?
— А может, там черт сидел, который тянет машину?
— Машину тянет не черт, а мотор.
— Кто его знает, засомневалась Люба. — У нас люди по-разному говорят. Ну, а дальше что?
— Помучился, повозился дедушка возле машины, и она ожила: зачихала, загудела, задрожали и уехала. Она может ехать вперед и назад. Тогда посадил меня дедушка возле себя на кожаную подушку с пружинами, и мы начали наведываться к близкой и дальней родне. Что уж интересно было — и не спрашивай: люди везде выбегают посмотреть на чудо, женщины страшатся и крестятся, детвора бегом за нами лупит и на дармовщину, как может, цепляется сзади, собаки бегут стаей, под колеса бросаются, куры и гуси разлетаются, только пух и перья сыплются, а мы с дедом так уж гордимся и так подпрыгиваем на барских сидениях, как будто всю жизнь не слезали с автомобилей.
— И хорошо было ехать?
— И хорошо, и мягко.
— Может, и я когда-то покатаюсь на такой машине, — мечтательно улыбнулась Люба.
— И это может быть, если не побоишься, — пренебрежительно сказал я.
— А куда же вы дели свой автомобиль?
— У нас его хотели на дармовщину какие-то шпикулянты за мыло выцыганить. Они и просили, и пугали деда, мол, знаете, что вам будет, когда Пилсудский вернется? Бабушка уже и согласилась была взять за автомобиль десяток длинных брусков солдатского мыла, а дедушка сказал, что мы еще можем белой глиной стирать белье. Тогда на торг подоспел староста. Ему не машина была нужна, хотел содрать кожу с подушек. Такое сумасшествие очень разозлило дедушку, и он сказал, что грех драть шкуру с человека, а кожу с машины. А староста сказал, что он больше разбирается в грехах, чем тот, кто порезал на дрова фигуры апостолов. После этого дедушка ушел на совет, как ему быть, к дяде Себастьяну, а дальше сдал машину в уезд. И за это мы имеем благодарность от самой Революции.
— А у нашего деда Революция хорошего коня забрала, а взамен плохого дала.
— Потому что так надо было, — говорю я словами дяди Себастьяна, и девушка соглашается со мной, а дальше вспоминает, что мне пора рвать ягоды.
— Хочешь я тебя к самой лучшей черешне поведу? Ее тетя Василина зовет «песней».