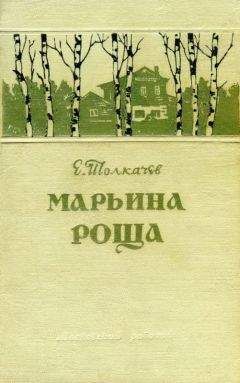…Разные люди жили в Марьиной роще. Все новые и новые люди появлялись в ее дамах, на улицах, в трактирах-клубах.
Сперва у вдовы Балаихи в светелке поселились трое волосатых. Нестриженые люди — не редкость в роще, но эти были не просто нестриженые, запущенные и не поповского сословия, а косматые, длинноволосые. Потом такие же, с длинными волосами — у кого подлиннее, у кого покороче — стали селиться в дешевых комнатках.
Прошло как будто совсем немного времени, и студенты стали вполне привычными обитателями Марьиной рощи. И даже несколько загадочными. А как же иначе? Ими вдруг заинтересовалась городская полиция. Околоточные надзиратели с узкими портфеликами стали навещать хозяев, сдающих комнаты студентам, и в непринужденной беседе выяснять, «не заметно ли чего» за жильцами.
Пока ничего не было заметно. Конечно, собираются, читают книжки, курят до одури, а так ничего: много не пьют, не безобразят. Да нет, не в том дело, пусть бы пили на доброе здоровье, а вот не говорят ли чего против царя-батюшки, против там министров и властей? Опять же, не поют ли запрещенные песни? Насчет царя и министров, слава богу, ничего не слышно, а какие такие запрещенные песни бывают — хозяйка и знать не знает… Впрочем, постой-ка: приходил намедни такой высокий, вихрастый, с рыжиной, и завели они песню про комара и дубочек, — так, может, это она и есть, запрещенная? Нет, эта ничего, про комара можно; но вообще пусть уважаемая Анна Петровна посматривает: народ молодой, ненадежный, того и гляди хозяйку подведут. Ежели ей что послышится, или, скажем, какую записку оброненную найдет, так об этом следует немедля сообщить ему, околоточному надзирателю; а он со своей стороны посодействует почтенной Анне Петровне в ее затруднениях, ну, допустим, если возникнут опять недоразумения по обвинению ее в шинкарстве. Пока об этом и речи нет, но все может быть…
И Анна Петровна затихала у себя за перегородкой, когда волновались и спорили студенты; тщетно пыталась, бедная, понять смысл их речей, — и слова вроде русские, а ничего не поймешь, — или запомнить хоть слово какое из всего непонятного, что пели жильцы. Запомнила было «гадеаму», да больно уж чудное слово показалось, такое околоточному и сказать стыдно, засмеет…
Далеко не к одной Анне Петровне наведывался околоточный.
Андрей Терентьевич Катков, по-уличному Шкалик, зажиточный сапожник, обладатель домика с садочком, пустил на квартиру трех вихрастых, но иного сорта. Они звались студентами Училища живописи: учатся, мол, рисовать, выучатся — станут художниками. Шкалик был доволен жильцами: полиция ими не интересовалась, хлопот с ними было мало, а когда заходили приятели и девушки (а художники нередко бывали при деньгах), они неизменно приглашали на чарку Шкалика.
Все бы хорошо, да стала мутить воду супруга Андрея Терентьевича, дама высоких моральных качеств, подавлявшая мужа добродетелью и сурово осуждавшая даже мелкие грешки. Она-то и начала портить отношения мужа с жильцами.
— Кого ты пустил в порядочный дом? — попрекала она. — Пустые люди! Разве это художники? Хохочут цельными днями, а как девки придут, хоть святых вон выноси…
— Так молодые ж, — возражал муж.
— И пьют. Вон сколько бутылок накопили!
— Веселие на Руси есть пити, — уклончиво отвечал Шкалик.
— Того гляди, тебя споят.
— Hу, меня опоишь, как же! Капиталов у них не хватит. Несерьезные твои речи, Софья Степановна. Дом, конечно, на твои деньги строен, и, коли тебе так хочется, можно им отказать, только, право слово, не за что…
Но однажды Софья Степановна потребовала:
— Гони!
— С чего это?
— С того! Переполнилась чаша моего терпения!
— Да что у тебя стряслось?
— У меня? У твоих художников стряслось! Ты пойди посмотри, что они на белёной печке нарисовали. Тьфу, тьфу! Сколько годов замужем, такой срамоты не знала!
— Ты сама видела?
— Да я б сама разве выдержала? Бабка Алена в окно видала. Такой позор!.. Эта язва всем расскажет. Ты хочешь, чтоб у тебя под окнами толпа стояла?
— Да что они там нарисовали, скажи толком?
— Что? Бабу нагую со всеми предметами! Тетка Алена язвит: на меня похожа. Разумеешь ты это, Шкалик? Вся роща будет говорить, что с твоей жены голые портреты рисуют…
Андрей Терентьевич встал и стукнул в соседнюю дверь: художники всегда запирались. Встретили его, как всегда, радушно: двое, помоложе, взяли его под руки и повели в угол показывать свои новые натурмур… — тьфу, не выговоришь! — пока третий, старший, чем-то занимался у печки. Ну как откажешься от лафитничка с кружком копченой колбасы? Но смех — смехом, а дело — делом.
— За угощенье спасибо, а только, молодые люди, безобразить нельзя. У меня честный дом, и я такое не позволю…
— Это вы о чем, Андрей Терентьич?
— Сами знаете, о чем. Нешто не слыхали, как мне жена жаловалась? Перегородка-то у нас не каменная. Такого мы в своем доме терпеть не можем. Вот!
Подошел третий художник и, вытирая руки тряпкой, сказал:
— Извините, Андрей Терентьевич, мы не знали, что вы старообрядцы.
— Какие там старообрядцы?.. Безобразить, говорю, нельзя! Жену мою рисовать на посмех всей рощи… Да я в участок заявлю!
— Какой посмех? Что вы, хозяин?
— А что вы на печке нарисовали? — И, резко повернув, он зашел со стороны окна. Действительно, на беленой голландке был углем нарисован человек в рост. Но совсем не женщина, а монах в скуфейке, аскетического сложения, с туманным взором…
Катков стоял разинув рот, а художники журчали наперебой:
— Да что вы, разве мы себе позволим вас обидеть?
— Это я эскиз для одной церкви делал.
— У нас заказ намечается, подмосковную церковь летом расписывать. Вот и упражняемся. Где ж такой величины холст взять?
— Мы этот рисунок мигом замажем, если вам не нравится.
— Да вы, оказывается, тонкий ценитель искусства!
— Да я… да нет… — бормотал Шкалик и, еще раз убедившись, что рисунок божественный, а не похабный, дал задний ход.
Софья Степановна сама смотрела в окно; язва — бабка Алена была подведена и ткнута носом туда же. Она долго качала головой, сомневалась, но под давлением неоспоримой действительности сослалась на слабое зрение. Тем дело и кончилось. В дальнейшем отношения оставались безоблачными.
А через несколько дней к художникам пожаловал степенный посетитель. Был он высокого роста, с благообразной бородкой.
— Порошков Иван Иванович, — представился он, подавая каждому сухую руку лопаточкой. — Будем знакомы к взаимной выгоде-с.
Он вежливо отказался от угощения и перешел к делу.
— Наслышан я, молодые люди, собираетесь вы храм расписывать. А раз так, не миновать нам с вами приятное знакомство иметь… Я, изволите видеть, Порошков Иван Иванович… Неужто не слыхали? Так когда думаете начать?
— Что начать, извините?
— Ясно: скоблить.
— Не ясно. Что скоблить?
— Хе-хе, какие вы-с. Да вы, может, в первый раз?
— Да, собственно… конечно… в первый раз… переговоры ведем…
— Вон оно что-с! Так вот о чем у нас разговор, молодые люди. Как приступите к делу, что вам в первую очередь нужно? Нужно вам старую краску долой снять-с. Уж я вас прошу, снимайте осторожнее старую позолоту, на бумажку там или в тряпочку. Да снимайте поглубже: старинные мастера для крепости клали ее в два-три слоя. Что наскребете, несите мне. Обоюдно выгодно-с.
На том и порешили, хотя никакой церкви в виду не было.
После ухода Порошкова заглянул Шкалик:
— Крохобор приходил? Какой это золотой клад у вас обнаружил? A-а, вон что, понятно. Ох, и смекалистый человек Иван Иванович!.. Неужто в самом деле не слыхали? Самородок, можно сказать. В Москву в лаптях пришел, а теперь вон какую мастерскую поставил, что твой завод. Как где? Да у линии, против зеркального заведения Алешина… Тоже не знаете? Ну и ну!.. И стал Иван Иванович заниматься золотом. У нас в роще всякие работяги живут. Есть, конечно, и золотарики. Кунаева, конечно, знаете?.. И Хвостова не знаете? Вот это самые крупные хозяева, на Хлебникова работают. Да помельче хозяев с десяток найдется. На них работают мастера и на дому, и в провинции. Так до чего додумался Порошков! Сговорился со всеми мастерами: раз в год им полы перестилает, там, где они работают. Зачем? А вот: золотарик, когда работает, теряет на обточке маленько золотой пыли. Садится эта пыль на пол, забивается в щели, и никакой бабьей тряпкой ее не возьмешь. Иван-то Иванович эту самую пыль вместе с половицами забирает — и в свою мастерскую. Знает он способ отделять золото от других металлов и отовсюду его вытапливать… Лет за пять поднялся человек из этой самой пыли. Скоро будет первым в роще богачом, и так уже церковный староста. Все золото в банк сдает, оттуда тоже работу берет, за это ему в мастерской охрана — городовые; иначе давно разорили бы.