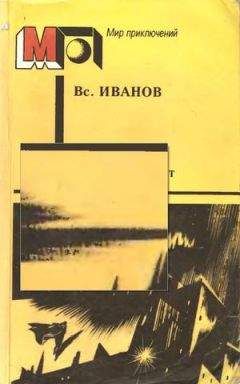– Понадуло смерти во все щели, – сказал, посылая бронебойный снаряд, капитан Елисеев. – Обидятся на меня немцы, а иначе нельзя.
И он послал еще снаряд.
От первого снаряда свернуло башню головному танку; от второго – дым, грохот, взрыв; от третьего – громоздким машинам захотелось вдруг искать другую дорогу, менять курс, увеличивать скорость; от четвертого – «Ага, понадобился кобыле ременный кнут!». В тот момент, когда залпы батареи Марка Карьина пришли на помощь, в поле уже пылало семь немецких танков. И кто знает, запылал ли бы восьмой, потому что немцы уже нащупали, откуда идет уничтожающий огонь, и два прямых попадания уже грохотом отдались в елисеевском танке… помогла карьинская броня, помог сыновний огонь.
– Наделили талантом всех родных – и отцов и сынов, спасибо!.. – сказал капитан Елисеев, зажигая восьмой немецкий танк.
…Не знал Марк и того, что произошло с врачом Бондариным.
Втайне, уже несколько дней, надумал и приготовил он новое противогнилостное средство. Проверить легко: раненых не успевают перебрасывать в тыл, а некоторые, заслушав о Бондарине, приходят издалека Проверил. Разумеется, от той перевязки, которая натолкнула его на мысль о новом средстве, не осталось и следа, да и дело оказалось не в перевязке. Но Настасьюшку он уважал, надышаться не мог на ее молодой и радостный талант. Он с нею первой поделился своими выводами и показал первых излеченных им больных. Три часа назад был на розово-синем теле отвратительный гнойник. Настасьюшка сама омывала его. А теперь уже и тело приобрело другой вид, словно бы оттаяло, и гнойник исчез бесследно.
– Дмитрий Ильич, счастливый вы! Как оно на вас налетело?
– Напился допьяна, вот и налетело, – нарочито грубым голосом сказал Бондарни. – Налетел, голубушка, «тампон Бондарина» и всех с ног сбил.
Ночь напролет Бондарни писал в Медсанупр свою «заявку». Поутру он пожелал непосредственно на поле сражения проверить действие своего «тампона». Тампон не только удаляет гной, но сразу же, приложенный к ране, затягивает ее. Уговоры были бесполезны, да и не особенно уговаривали – работы много, врачей не хватает, хочет в поле – иди, не маленький ребенок.
Настасьюшка пожелала сопровождать его. Прошел слух: ранен капитан Елисеев, но о том, что слышала она об этом, Бондарину не сказала. Он проговорил, глядя в ее глаза, голубые, словно налощенные морем камешки:
– Надо идти туда, куда вас, пичужка, зовет не сердце, а долг.
Она не поняла его.
– Куда меня зовет сердце, Дмитрий Ильич?
– К щеголю зовет, пичужка.
– Он не щеголь.
– Догадалась? Капитан Елисеев – щеголь: бой ведет щегольски. И не верю я, что он ранен… – Он подумал и добавил: – Абсолютно не верю. Такого человека не убить врагу, не ранить: он слишком ловок. Марка Карьина могут надломить. Горяч, упрям, а ловкости немного не хватает. Впрочем, приобретет… Знаете, когда капусту квасят, так для гнета кладут сверху каменья. Война тем же самым занимается по отношению к Марку Карьину… Так-то, пичужка!
Он осмотрел полевую сумку, все ли взято, ощупал карманы, нет ли чего лишнего, проверил, правилен ли адрес на «заявке». Настасьюшка стояла, опустив руки. В глазах ее он читал тоску. И он поднял ладонь ко лбу, как бы заслоняя глаза от солнца. Под жужжание голосов раненых и санитарок, измученных боем, он думал. Открытие, совершенное им, помогло ему как бы встрепенуться. Он почти невзначай сказал о капитане Елисееве, а вдумавшись, понял, что надо кое-что досказать. Миленькая пичужка любит капитана и сама себе еще не призналась в этом. Что же касается Марка Карьина, – то какие ж мы дети! В сущности говоря, ни ей нет дела до него, ни ему до нее. Дай бог, если они останутся друзьями, да и это надо ли? Разные люди, разные пути.
Приучив себя говорить людям, которых он уважает, все, что он думает о них, Бондарин высказал свои мысли Настасьюшке. Она малость подумала и с поразительной простотой, ей свойственной, ответила:
– Вот и верно, что пичужка. Посмотрел в мою маленькую душу, да сразу и понял. Люблю, Дмитрий Ильич. – И она добавила: – А мне, значит, лучше идти к батарее Карьина? Жалко мне Сережу бросать и вас, Дмитрий Ильич, оставлять жалко. Вы меня известите в случае чего.
– Обязательно, пичужечка.
Известить не удалось.
Бондарин успел наложить «тампон Бондарина» троим раненым. Возле четвертого уложила самого Бондарина фашистская пуля. Случилось это перед тем, как Марку привиделся в поле танк капитана Елисеева, который в то время стоял в засаде; почудилась ему и фигура Бондарина, который хотя и шел по полю, но по другую сторону черемуховых зарослей, как и не мог Марк само собой видеть в поле Настасьюшку.
Не мог видеть потому, что в это время Настасьюшка, два медика-студента и санитары пробирались горящим лесочком к батарее лейтенанта Карьина, который с непонятным уменьем и поразительным упорством отбивал все атаки немцев и подготовлял нашу контратаку, ломая у немцев коммуникации… – Без памяти был Маркине знал он и не видел, как маленькая девушка, «пичужка», после того как убили санитаров, ранили студента-медика, сопровождавшего Марка, взвалила его себе на хрупкие плечи и, помогая студенту, вынесла Марка из-под огня.
Не знал он и того, что, услышав о ранении Марка, подполковник Хованский охнул и уронил со стуком тяжелые, словно мертвые руки на стол.
– А все равно не отойду, – сказал он. – Пока сочится кровь, не отойду! И никогда не отойду. Будем биться!
Он приказал соединить его с третьей батареей.
– Кто говорит? – спросил он сурово.
И услышал:
– Сержант Воропаев, товарищ подполковник. Принял командование батареей, держусь. Извиняюсь, нем1 цы приближаются. Отобью атаку, доложу об ихних потерях, товарищ подполковник. Скажите только, лейтенант Карьин Марк Иванович жив?
– Жив, жив, – торопливо ответил подполковник, не веря своим словам. – И будет жив, бейтесь!
– За нами дело не станет… Извиняюсь, идет!
13
Марк полуоткрыл глаза с трудом. Веки словно свинцовые и еще по краям посыпаны песком.
Он увидал мелкую речку с длинной, не по ее размаху, широкой отмелью. Словно от стыда за свое хвастовство, речка скрылась в кочках, потемнела. На песке – следы птиц, улетевших отсюда последними… Ветер свежит лицо, заносит следы птиц… И Марку не хочется ни о чем думать. Заносит, и пусть заносит.
Возле борта машины усталое лицо Настасьюшки с мокрыми волосами, приставшими ко лбу. Глаза ее широко раскрыты, будто выкатываются. «Что с вами, Настасьюшка?» – хочет спросить Марк и раскрыл было рот, но равнодушие, наполняющее его голову, опять вдвигает губы. Кончик носа у нее синеет, на скулах коричневая краснота… Пусть!
Милое детское личико. И пусть!
Милое отцовское лицо. Чье? Хованского? И пусть.
Они о чем-то говорят. Кажется, о том, хватит ли покрышек до Москвы. «Какой вздор? При чем тут покрышки?» – подумал Марк, и ему отчетливо вспомнился обрывок разговора с Бондариным. Говорили о том, что Настасьюшка не любит читать книги.
Книги? Разве дело в книгах? Дело в любви. Сейчас это видно совершенно отчетливо, как вон те следы птиц на песке. И странно, что его волновали и возмущали в ней какие-то пустяки, а главное не взволновало его, главное-то он увидал сейчас.
Честолюбие, которым она бахвалилась? Ах, какая чепуха! Или она лгала на себя, – сознательно, может быть, даже, – или же она заблуждалась? Разве люди с такими страдающими глазами способны быть честолюбивыми? Ну, что она сделала для своего хваленого честолюбия? Ничего. А если прикажут, она без промедления, немедленно отдаст жизнь за… как это отец читал… «за други своя»? Отдаст красоту, молодую и горячую кровь, погасит прелестные голубые глаза с тонкими детскими бровями. Честолюбие? Нет, де честолюбие, а скрытность великолепной души, прикрывающей себя, как крыльями, этим честолюбием!
Для человека, так же как и для картины или архитектурного сооружения, необходим ракурс, точка, с которой возможно разглядеть его по-настоящему. Для Марка, разглядевшего сейчас Настасьюшку, таким ракурсом была мокрая прядь волос на ее усталом от работы и волнений, чудесном и умном лбу.
Разглядеть он ее разглядел, но думал о ней с холодным равнодушием тяжко больного человека. Мелькнул в его воображении лесок, по которому на носилках несли его. И ему пригрезилось, что несла его Настасьюшка. Но по-прежнему холодно он думал о шумящем лесе с его запахом сырого дыма и о руке Настасьюшки, которая поддерживала его голову. «Если так… значит, конец?» – подумал он и хотел сказать прощальные слова, но желание появилось и ушло быстро. Его молодое лицо приобрело цвет металла… оно было страшно.
«Если бы жив был Бондарин…» – подумала Настасьюшка и заторопила шофера:
– Скорей в Москву! Записку не потеряли? Шофер, когда вы поедете через Бородинский мост…