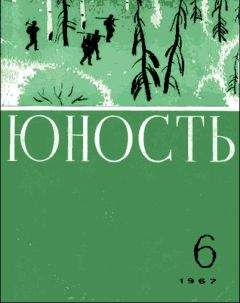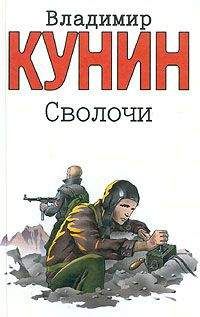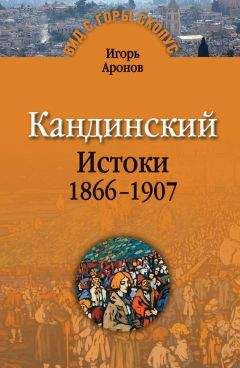— Правильно! — дружно поддержали солдаты.
— Ишь, какие добренькие! — не выдержал и выкрикнул со своего места Снежков. — Да за это штрафбата мало! Шутка ли, уснул на посту!
Все повернулись в его сторону. Подполковник тоже метнул на него сердитый взгляд.
Следующим выступил командир батареи Горлунков. Он охарактеризовал Осинского как хорошего солдата и в заключение сказал:
— Если бы не этот проступок, я бы именно его рекомендовал вместо заболевшего комсорга. Какой Осинский солдат, вы все знаете. А вот все ли знают, что он в прошлом артист?
В зале оживились, закричали:
— Как — артист? Левка Осинский — артист?
— Да, оказывается, он артист цирка. Артист с тринадцати лет. Он рано лишился родителей. Воспитывался в детдоме. Случайно попал в бродячую труппу. Мотался с этой «дикой» бригадой по всей стране. Недоедал. Недопивал. Не раз хозяйчик бил его. Эксплуатировал. Вы слышали, я его в шутку иногда зову «пассажиром без билета»? А почему? Да потому, что был без прав, без места в жизни. Оборванный. Вшивый. Грязный. И не сломился. Стал человеком. Хорошим артистом. Он скрывал это. Как звали твоего коллегу, что ко мне заявился? — обратился командир батареи к Осинскому.
— Герман Резников. Только зачем вы об этом?
— Надо. Пусть все знают. Так вот, ребята, заявляется ко мне как-то этот Герман Резников. «Я слышал, что у вас в батарее Осинский?» «У меня, — отвечаю, — а зачем он вам?» «Я, — говорит, — назначен руководителем фронтового акробатического ансамбля, мне нужны люди». «Очень приятно, — говорю, — поздравляю с высоким назначением, только при чем тут Осинский?» «Он артист!» У меня, ребята, как и у вас сейчас, глаза на лоб! Осинский — и вдруг артист! Вызвал я его. Он сразу этого Резникова узнал, смутился. «Ну, потолкуйте, потолкуйте, ребята», — говорю и вышел... О чем они там разговаривали, не знаю, а только снова приходит ко мне этот Герман. «Повлияйте на Осинского! — говорит. — Я имею полномочия. Осинского запросто к нам в ансамбль зачислю, а он еще чего-то думает, не хочет, а мне позарез нужен «верхний» в пирамиду и трубач в оркестр». «Нет, — отвечаю, — пусть сам решает. У него своя голова». Через день обращается ко мне Осинский: «Разрешите на репетицию сходить?» Я его отпустил. А у самого, ребята, душа болит. «Не выдержит, — думаю, — в ансамбль запросится. Уговорит его этот Герман, черт бы его подрал! Жаль будет парня отпускать... А куда денешься?» Нет Осинского и нет. Я жду, нервничаю. Пришел он поздно. Бледный, взволнованный. «Ну, — спрашиваю, — репетировал свои пирамиды?» «Репетировал...» «И на трубе играл?» «И на трубе...» И таким грустным тоном сказал он это: «И на трубе...», — что, чувствую, уйдет, не может не уйти! «Что ж, — спрашиваю, — значит, будем оформлять твой перевод в ансамбль?» «Нет, — отвечает, — полк — мой родной дом. Только ребятам ничего не рассказывайте. Пусть не знают по-прежнему, что я артист. А на репетиции меня еще пару раз отпустите, пожалуйста, если можно...»
Через десять дней, вернувшись из-под ареста, Осинский вместе с полком выехал на фронт.
Осинский спал, завернувшись в шинель, неподалеку от пушки, на ярко-зеленой, прогретой августовским солнцем траве. Рядом было неубранное поле. Тяжелые колосья склонялись к земле.
Слева, у невысокого холма, стоял огромный, обгоревший «Тигр». Он осел набок, бессильно свесив покалеченный ствол.
Около танка валялся мертвый танкист в полусгоревшем френче, с серебряными черепами и розовым кантом на погонах и петлицах.
А неподалеку от огневой позиции покуривали командир батареи, несколько солдат-артиллеристов и какой-то пожилой пехотинец в выбеленной солнцем и ветром гимнастерке с поблескивающими на ней медалями.
— А хоть представили вас за «Тигра»? — помолчав, спросил пехотинец.
— Представили. Нас к медалям, сержанта Осинского — к «Звездочке».
— Трофей стоящий, — сказал пехотинец. — Как думаешь...
И он не успел закончить свою мысль, как в метре от него в землю врезался снаряд. И, казалось, только потом послышался зловещий, стремительно нарастающий звук.
— Ложись! — громко крикнул лейтенант Горлунков.
Осинский проснулся, метнулся к пушке, спрятался за стальное колесо. Остальные тоже попрятались кто куда: мариец Иван Иванович — в старую воронку от бомбы, лейтенант и пехотинец — в окопчик.
Распластавшись, Осинский старался как можно сильнее прижаться к земле, целиком вдавиться в нее.
— Ну, когда же? — не выдержав, тоненьким детским голоском выкрикнул из воронки мариец.
Но взрыва не последовало. Снаряд не разорвался.
— Подъем! Ложная тревога!
Солдаты поднимались с опаской. Иван Иванович вылез из воронки весь в известковой жиже.
— Ты совсем как наш цирковой клоун Роланд! — рассмеялся Осинский. — Только у того хоть одна бровь черная да уши красные, а ты весь белый.
К снаряду подходили осторожно, отряхивая с себя землю, негромко переговариваясь.
— Ничего себе, — шепнул и даже тихонько присвистнул Иван Иванович, сбросив на траву мокрую гимнастерку. — Восьмидесятивосьмимиллиметровый калибр! Приличная штучка!
— Да, считайте, что мы все в рубашках родились. Здорово повезло, — сказал лейтенант. — Ну, по местам, ребята, скоро начнется!..
Они направились к укрытию, но не сделали и десяти шагов, как послышалось пронзительное взвизгивание шальной мины. С хлюпаньем она разорвалась впереди лейтенанта.
Командир батареи пошатнулся, рухнул набок, начал медленно заваливаться на спину. Все кинулись к нему.
— Живы, Петр Ильич?
— Жив... Ничего... Не в первый раз... Отлежусь... — пытался шутить лейтенант.
Лицо его стало таким же белым, как у марийца, когда тот вылез из воронки с известью.
— Сообщите в санчасть! Машину! А пока пакеты сюда, пакеты! — крикнул Осинский, сбрасывая с себя шинель и наклоняясь над командиром батареи.
На перевязку ушло шесть индивидуальных пакетов. Иван Иванович быстро стянул с себя нижнюю рубаху, разорвал ее на широкие полосы и принялся перевязывать раненого. Кровь проступала алыми пятнами сквозь бинты, капала на сухую землю.
Едва только санитары унесли лейтенанта, как из-за большого холма послышался знакомый рев.
— По местам! Танки! — скомандовал Осинский.
Первым бросился к пушке мариец, так и не успев надеть гимнастерку. Незагорелая, впалая детская грудь его и тонкие, как у ребенка, руки были перепачканы кровью лейтенанта.
Не дожидаясь приказа Осинского, он поспешно схватился за тугую рукоятку и, открыв затвор, нетерпеливо повернулся к расчету.
— Скорее! Скорее!
Из-за большого холма уже видны были клубы пыли; тяжелый гул нарастал.
— Каску! Каску надень! — приказал марийцу Осинский, сам торопливо натягивая на пилотку старую, исцарапанную, чуть помятую по краям каску. От волнения он никак не мог застегнуть тоненький ремешок под подбородком. Наконец это ему удалось.
— Сейчас врежем! Подождите, гады!
Беспощадно палит солнце. Танков еще не видно, но они вот-вот появятся: все гуще растет туча пыли, все громче ревут моторы и гремят траки.
— Подкалиберным! — приказывает Осинский и одним глазом прижимается к прицелу.
Снаряд в патроннике. Лязгает затвор.
Самое неприятное — скрежет гусениц. От него внутри становится пусто и холодно, скребет в ушах, что-то переворачивается под сердцем, к горлу подступает тошнота, почему-то стынут зубы.
— Сейчас выползут!
Все полны тревожного ожидания. Соленый, липкий пот слепит Осинскому глаза, струйками стекает за ворот.
На миг оторвавшись от прицела, он быстро вытирает пот рукавом гимнастерки и снова припадает к прицелу.
— Идут!
Косяк рыжевато-серых танков похож на ползущих тараканов. Они гремят и грохочут, катятся в клубах пыли, набирая скорость. Нарастает железный гул, ползет по земле, стонет в поднебесье.
— Огонь!
Выстрелы тонут в общем грохоте и реве. Слева, справа и над головами с воем проносятся снаряды. Эхо не умолкает, разрастается, удесятеряет гул, звон, скрип, рев. Сотрясается воздух, дрожит земля.
— Огонь! Огонь! — кричит Осинский.
Полуоглохшие ребята стараются, не щадя сил. Задыхаясь, не закрывая ртов, они жадно глотают горячий, удушливый, горький от пороха и тротила воздух.
Осинскому плохо видно в прицел: горизонт то и дело исчезает за клубами порохового дыма и столбами земли. Космами висит пыль. До боли прижавшись к каучуковому наглазнику, он водит и водит маховиками, целится, нажимает на спуск, снова хрипло кричит:
— Подкалиберным!
Много танков уже горит, некоторые повернули обратно, но три прорывают оборону и двигаются вперед.
«Дело плохо... Сектор обстрела у нас только впереди... Стрелять назад невозможно...» — быстро соображает Осинский и приказывает, указав на тропинку в жнивье:
— Выкатывай!
Пушка тут же застревает правым колесом в воронке от снаряда.