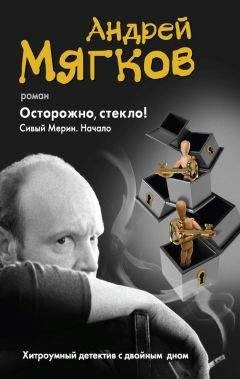В одной из долин Макар наткнулся на маленькую речонку и побрел по берегу вниз по течению. Часа три он шел и не заметил ни одной тропы, ни одной дорожки.
Речка то выбегала на елань и тихо, отражая небо, расстилала голубые плесы в травяном ковре, густо расшитом цветами, то забегала в темный ельник, под тяжелые лапы вековых деревьев и ползла там черной беспокойной-змеей, а в иных местах сердито рокоча, точила камни, звенела, крутила омута. Все здесь было дико и красиво.
Солнце уже спускалось за лес. Облака, подгоняемые тихим ветром, провожали солнце на ночлег. Макар, пробираясь все дальше, уходил вниз по течению.
Молчание нетронутой рамени обнимало его. Он чувствовал себя одиноко стоящим на земле человеком и хозяином всего того, что бы он сейчас ни нашел. Это его достояние, его собственность, добытая в мучительных поисках.
Из ельника речка вытекла в широкую котловину, загроможденную упавшими вековыми деревьями. Вдруг она скрылась, словно ушла под землю, потом, вырвавшись, впуталась в густой черемушник. Тут и там стояли нетронутые высокие кусты смородины. Тяжелые кисти черных ягод свисали, любуясь собой в зеркале воды.
Когда Макар стоял, оглядывая эту строгую молчаливую котловину, берега которой заросли пихтачом и мхом, ему вспомнились слова отца:
— Ищи крутые лога…
Спускалась ночь. Мягкой дымкой расстилался вечерний туман. Синеватый дым костра припадал к земле, окутывал прибрежные кустарники. В хмурых пихтачах досвистывали вечерние, песни клесты.
Ноги Макара приятно ныли. Он достал из кожаной сумки хлеб, густо посолил и принялся с аппетитом есть, запивая водой.
К полуночи котловина притихла. Темное небо казалось опрокинутым огромным ковшом, на дне которого рассыпались золотыми крупинками звезды. Макар лежал, положив под голову руки, и смотрел в этот огромный ковш, усыпанный золотыми зернами… Он чувствовал, как растут его силы и желание заглянуть в недра земли, найти то, что ему нужно — золото, платину, жизнь!
С этой мыслью он заснул.
Приехав после праздника на Тихую, Яков не нашел сына. Сидя на пороге избушки, подергивая бороду, он ворчал надтреснутым голосом:
— Пропал!.. Забрел куда-нибудь, каналья…
Когда уже совсем стемнело, Яков пошел на Лиственную гору и, встав на острые глыбы шихана, зычно крикнул:
— Макарка-ы!.. А-а-а-а-ы!..
Вместо ответа, во всех концах дробным эхом прокатился зык:
— Ыы-ы-ы!..
В тишине ночи он несколько раз вскакивал, отворял дверь, садился на порог и смотрел в черную стену леса, где спокойно позвякивало ботало Кольки. Внезапно, как ужаленный, он срывался с места и, вытягиваясь, кричал.
Громкое «а-ы» будило рамень. Она откликалась эхом и снова замыкалась в черное молчание.
— Чорт с тобой! Таковский был! — выругался Яков. Но в душе росла забота, колющая, как заноза: «куда девался?»
Под утро Яков чуть не плакал. На заре он поднялся на шихан и долго кричал. Он знал, что ранним утром звук легко летит за целые версты… Но ответа не было.
Несколько раз в течение дня он принимался кричать, — и всё понапрасну.
«Домой ехать, что ли? — раздумывал он… — В Подгорное он попасть не может… Господи батюшка… Макарушка сынок мой… Христос с тобой!»
В тот момент, когда он был готов разрыдаться от тоски и беспокойства, у балагана послышались шаги Макара.
— Где шатался? — Яков хотел спросить сердито и властно, но голос его прозвучал беспомощно.
— А чего такое?..
— Чего такое?! — передразнил Яков. — Где был, спрашиваю?
— Где был, там уже теперь нету.
— Ишь ты, как отвечаешь.
Макар молчал, уписывая с жадностью круто посоленный ломоть хлеба.
— Эк, ведь, проголодался! Заботься здесь, рыскай по лесу-то, ищи тебя, — ворчал Яков.
— Не надо искать!
— А если куда забредешь?
— Забреду, — выйду!
— Выйдешь? Не больно, брат, выйдешь… Шаромы-жил, поди, где-нибудь?.. Чего нашел?..
Макар промолчал. Он незаметно ощупал карман замазанных глиной штанов.
С этих пор стал Макар исчезать с прииска. Уходил он надолго.
Возвращался возбужденный, сияющий. На вопросы отца он отвечал уклончиво. Яков всеми силами старался проникнуть в тайну сына. Он не верил, что тот уходит на охоту, догадывался, что Макар где-то нашел «золотишко». Не раз он пытался выследить сына, но Макар, как зверь от охотника, внезапно исчезал, теряясь в таежной чаще. Яков, разочарованный, возвращался к себе в избушку. Ему становилось до тошноты скучно. Он целые дни валялся на нарах. Иной раз сердито встречал Макара:
— Эх ты, шляешься, как саврас без узды… Утки, да рябки — потеряй деньки.
А про себя думал: «Построжить надо, без этого нельзя. Был я молодым, сам знаю… Тоже кой-где на винишко да на девчонок пошаромыживал».
Рассказав жене об отлучках сына, Яков узнал от нее, что Макар начинает покуривать табак.
— И ты видела?.. — удивился Яков.
— Не один раз. Да при мне уж курил, восет-та. Мне и бедко было, да уж, думаю, наплевать, уже не маленький.
Раз утром Макар, собираясь куда-то уходить, нечаянно выронил из кармана брюк кисет и спички. Яков быстрым движением поднял:
— Это что у тебя?.. Вот как?.. Табашничать зачал. Экая ты, страмина!
— А тебе жалко?
— Не жалко, а убывает. Никто у нас в родстве еще этим дерьмом не занимался. У меня в избе не кури, а убирайся на улицу. Совсем бы запретил, да боязно. Крадче будешь курить, заронишь еще… Нашли чего-то доброго в табаке. Тьфу!
А мать, оставшись наедине с сыном, тихонько подсела к нему.
— Ты, Макарушка, отцу-то не говори, ты лучше мне отдай. Я лучше сохраню, а он ведь все равно прошаромыжит. Мало ли, — целые дома прошаромыжил.
Макар изумленно посмотрел на мать.
— Чего тебе дай?..
— А деньги-то!..
— Какие деньги?
— Ну, что-то, сынок, уж своей-то матери не скажешь. Думаешь, я не знаю? Знаю, все знаю. Куда, кому сдаешь… Трегубовым… золото-то?
— Какое золото?
— Ой, не хитри! Грешно перед матерью хитрить.
Полинарья шутя взяла сына за густые черные волосы и дернула.
— Уй-ты, прокурат, право! Ну, хоть на фартучишко дай, на ситцевенький.
— Да нету, мама, у меня денег!
— А куда от отца-то с прииска ходишь?
— Ну, мало ли куда!
— Вот-те славно! Ты эк матери отвечаешь?
— Ну и только! Заробим — не ситцевый, а кашемировый фартук сошью, а сейчас нету.
— Ну; погоди, ужо поймаю я тебя.
Она, улыбаясь, смотрела на Макара снизу вверх.
— Экий ведь ты какой стал — выше меня. Весь в дядю Федора растешь. Экой же — гвардеец!
Макар сшил себе рубаху из яркокрасного Манчестера, вышитую фисташками, и черные плисовые шаровары. В высоких, с набором гармонией, сапогах, прибоченя на голове черный широковерхний суконный картуз, щеголял он по праздникам в артели холостяжника, помахивая берестяной тростью.
Полинарья говорила Якову:
— Отец, гляди-ка, у нас сын-от от всех чище парень, а?..
— Чистяк-то чистяк, да вот где он денег берет на свои наряды?
— А ну и пусть!., на дело они у него идут!
— Да ты чего! Потатчица! У тебя одни речи!
Утром в праздник, пока Макар еще спал, Яков запустил руку в карманы новых шаровар сына, висевших на стене, и нашел там пятирублевую бумажку. Глаза его радостно блеснули.
— Мать, смотри-ка, куда дело-то пошло?
Он положил кредитку обратно. Когда же Макар сел за стол завтракать, Яков, будто ничего не подозревая, сказал сыну:
— Макар, ты дай-ка мне Денег, рублишек пять, хлеба надо покупать.
Макар так же спокойно, как и отец, достал деньги из кармана, подал ему.
— Где взял?..
— Где взял там еще много!
— Это отцу-то так говоришь?
— А как надо? — улыбаясь, спросил Макар.
— Отец я тебе или нет? Пою-кормлю тебя?..
— И обязан…
— Это как надо понимать? — сдвинул брови Яков.
— А так! Я ведь не просил тебя, чтобы ты меня на свет рожал. Ну, а раз родил — воспитывай!
Такие речи сына покоробили Якова.
— Мы и мыслей таких не держали раньше, кои ты говоришь! Родителей почитали, как бога.
— Ну, залезай на божницу, я буду молиться на тебя.
— Ой!.. Вон как!
Якову захотелось выругать сына, но он сдержался и, свернув пятирублевку, сунул ее в карман.
Вскоре после этого разговора Макара привезли домой пьяного. Лицо его было красное, а глаза пустые, хмельные. Выпятив грудь, подняв брови, он шумно ввалился в избу.
— Тятя!.. Вот я!.. Видишь?..
— Вижу, вижу, — ласково и зловеще сказал Яков. Вытянув шею, он шел, точно подкрадываясь к сыну. — Молодец!.. Как стелька!
— А что?..
— Из каких это видов-то нахлестался? Богата-бога-тина!
— А-а!.. не твое дело!
— Я вот знаю, чье дело. Я вот покажу тебе, чье дело!
Яков звонко ударил сына по щеке.
— Ты еще не отбился от моих рук!.. Я еще эких, как ты, десяток уберу!