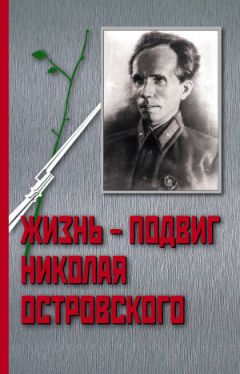С пятью долларами в кармане и с книжонкой в пестрой обложке я направился в кафе «Бетховен», где обычно собиралась группа коммунистов-эмигрантов. Там с утра до вечера просиживал Макси Лекаи, о котором мне было известно, что он читает и пишет на семи-восьми языках.
— Ты знаешь испанский? — спросил я у него.
— Смотря о чем идет речь, — осторожно ответил он.
Я рассказал, и Макси обязался прочитать обреченное на перевод произведение и подробно изложить мне его содержание. А потом я напишу, как смогу.
Мы поделили пять долларов, я отдал ему книжонку, а на другой день рано утром мы снова встретились. Макси провел основательную работу; два часа подряд он пересказывал мне то, что прочитал ночью, а я делал заметки. Потом на основании своих заметок я заново написал роман ужасов, который и в оригинале не блистал высокими художественными достоинствами, а в моем изложении был просто гнусным.
Рукопись я тут же отнес Андору Габору. Он взял ее и, разумеется, даже не заглянув, написал: «Отличный, верный перевод!»
— Ну видишь, ты же знаешь испанский язык! — с упреком сказал он.
— Дело было так… — начал было я, но Габор не стал слушать.
— Я не любопытен!.. — вскричал он. — Через полчаса откроют кассу, и ты сможешь получить остальные пять долларов. Ты их честно заслужил!
Когда мы с Макси Лекаи поделили вторые пять долларов и отправились пообедать, он вздохнул:
— Думаю, мне все же следует изучить испанский.
— А разве ты его не знаешь? — в ужасе воскликнул я.
— Откуда? — грустно ответил он. — Я прочитал один английский бульварный роман и рассказал тебе его содержание, изменив имена на испанские. Мне кажется, он такой же скверный, может быть, еще хуже того, что принес ты. Но это, конечно, только предположение, а вовсе не научно доказанное утверждение.
Две-три недели спустя я снова встретился с Андором Габором и ознакомил его со своим творческим методом, то есть рассказал историю перевода.
— Ну, видишь, сынок! Я знал, кому дать работу! Думаю, если книга, которую ты перевел, выйдет, она сыграет хорошую роль в деле дискредитации бульварной литературы. Я надеюсь, ты состряпал такую скверную писанину, что тот, кто ее прочтет, десять раз подумает, прежде чем снова возьмет в руки приключенческий роман. Спасибо, Бела, большое спасибо за помощь!
В наше время, читая переведенные на венгерский язык произведения, знакомые мне в оригинале, я, случается, вздыхаю. Какое все-таки счастье, что наши переводчики сейчас работают не так легкомысленно и недобросовестно, как это делал я в 1922 году!
Перевод Е. ТумаркинойОбщество по борьбе с опозданиями
Осенью 1923 года в Москве создали общество, целью которого была борьба против всех и всяческих опозданий. Учредительное собрание созвали в Политехническом музее. Докладчиком был объявлен Луначарский.
На это собрание, назначенное в пять часов пополудни, более пятисот делегатов пришли почти точно, остальные с десяти-двадцати- и тридцатиминутным опозданием. Докладчик же опоздал ровно на полтора часа. Публика терпеливо его дожидалась и встретила шутливой овацией. Луначарский на какую-то долю секунды смутился, но тут же начал свой доклад ровным и спокойным голосом. Он сказал примерно следующее:
— Теоретически мы давно знаем, сколько вреда приносят опоздания, как мучительно бывает ждать, ждать, страдать от чьей-либо неточности. Теперь же вы, товарищи, решившие объединиться для борьбы с опозданиями, смогли на практике убедиться, как нехорошо опаздывать, как отвратителен и даже ненавистен становится тебе человек, обрекающий товарищей на мучительное ожидание.
Раздались оглушительные аплодисменты. Луначарский исправлял впечатление от своего полуторачасового опоздания блестящим полуторачасовым докладом. И надо сказать, это ему вполне удалось.
Короче говоря, общество по борьбе с опозданиями было учреждено. Оно насчитывало более двух тысяч членов. Я тоже был в числе учредителей, но, к сожалению, о дальнейшей судьбе этого общества ничего не знаю. В одном я абсолютно уверен, — опоздания не изжить двум тысячам членам общества, это в состоянии сделать лишь созидательный труд двухсот миллионов.
Перевод А. ГершковичаЭто произошло со мною в 1925 году, в конце мая или в начале июня. Нетрудно было бы установить дату и поточнее, но я не думаю, что это кому-либо важно. Лично мне очень нравится парить на крылышках памяти, не видя ни берегов, ни других точек опоры. Возможно, этим я льщу самому себе: вот, мол, какой я счастливый, встречался с таким множеством интересных людей, был свидетелем стольких волнующих встреч и почти фантастических событий, что потерял им счет. Но возможно также и другое: не помня точных дат, я тем самым наказываю самого себя за то, что, будучи свидетелем и участником великих событий, никогда не думал, что вот, мол, сегодня исторический день, или исторический момент, или совершается какое-то историческое событие. Нет, в любой из подобных исторических дней я, как помнится, был озабочен какими-то своими повседневными делами и будничными радостями. И теперь вот эти воспоминания пишутся как бы в компенсацию за упущенное или, если угодно, в доказательство того, что, несмотря на мою тогдашнюю недальновидность и легкомыслие, я все-таки могу сказать о себе: «и я там был, мед-пиво пил…»
Итак, однажды утром я слонялся по редакции «Огонька». Не помню точно, какое конкретное дело было у меня там, — по всей видимости, я выпрашивал аванс. Случайно встречаюсь с Юрием Либединским, выходим вместе на улицу.
— Я иду на просмотр фильма, пошли со мной, Бела! — предложил он мне.
— У меня нет пригласительного.
— А у меня билет на двоих, — не унимался Либединский. — И, увидя, что я колеблюсь, добавил: — А оттуда пойдем обедать вместе с ребятами.
«Ребята» — то бишь руководители Союза пролетарских писателей — действительно уже собрались в Клубе журналистов, где тогда обычно устраивались просмотры новых фильмов. Зал примерно на двести мест был заполнен лишь наполовину. Одиннадцать часов утра не самое удобное время для работающих в ночную смену газетчиков. Зато среди зрителей я увидел наркома просвещения Луначарского, сидевшего в окружении нескольких видных военморов. Был, конечно, здесь и режиссер фильма. Он стоял в дверях и приветствовал, благодарил каждого входящего в зал на манер того, как это делают специальные люди в фешенебельных европейских ресторанах. Я впервые видел этого режиссера: он был плохо одет, худой, низкорослый, бледное лицо казалось усталым, только живые глаза блестели.
Все время, пока крутили ленту, — фильмы в ту пору были немые, — в зале стояла тишина, лишь изредка слышался глубокий вздох или тихий возглас. Когда зажглось электричество, не раздалось ни единого хлопка. Зрители как сидели, так и оставались сидеть в своих креслах, молча н недвижимо.
И только Луначарский — тогда уже пожилой и немного располневший — вскочил со своего места и энергично поднялся на сцену.
— Товарищи! — сказал он. — Мы являемся свидетелями культурного события исторического значения. Родилось новое искусство. Сегодня мы можем сказать, что кино становится искусством, настоящим, имеющим большое будущее искусством!..
Луначарский говорил сжато, но, как всегда, прекрасно, убедительно и возвышенно. Когда он кончил и сел на свое место, раздались наконец первые аплодисменты. Аплодисменты продолжались долго и становились все горячее. После Луначарского говорили еще многие. Не так хорошо, как он, и, пожалуй, не столь убедительно, хотя гораздо длиннее, но тоже вдохновенно и страстно.
Режиссер, естественно, был очень счастлив. Но при этом он как-то нервно ерзал на стуле и то и дело поглядывал на ручные часы. Наконец он подсел к нашей группе и, наклонившись, зашептал на ухо Борису Горбатову, который сидел рядом со мной.
— Боря, прошу тебя, мне надо получить деньги на кинофабрике, но боюсь, закроют кассу. Съезди, пожалуйста, — я черкну доверенность.
— Ладно, — ответил Горбатов и, помолчав, спросил: — Ну, ты счастлив сегодня?
— Да, конечно, — отвечал режиссер, — но у меня в кармане ни гроша. Вот доверенность, смотри всё там получи.
— За кого ты меня принимаешь?
Чтобы эта история имела заключительный аккорд, скажу только, что режиссера, о котором шла речь, звали Эйзенштейн, а фильм, который впервые смотрели представители советской прессы, назывался «Броненосец Потемкин».
Перевод А. ГершковичаБела Уитц [48] — большой венгерский художник-революционер — много лет жил в Париже. В 1930 (или в 31-м) году Франция стала ему тесна. К тому времени он успел скрестить копья со всеми реакционными критиками, переругался со всеми жрецами чистого искусства, отношения с властями тоже все более омрачались. Одним словом, земля начинала гореть у него под ногами. И оп решил переехать жить в Советский Союз.