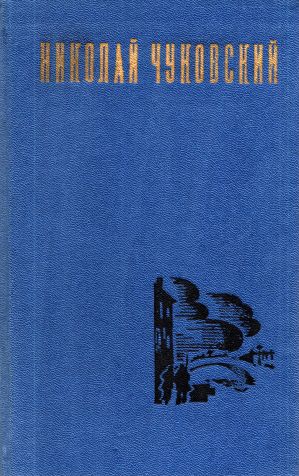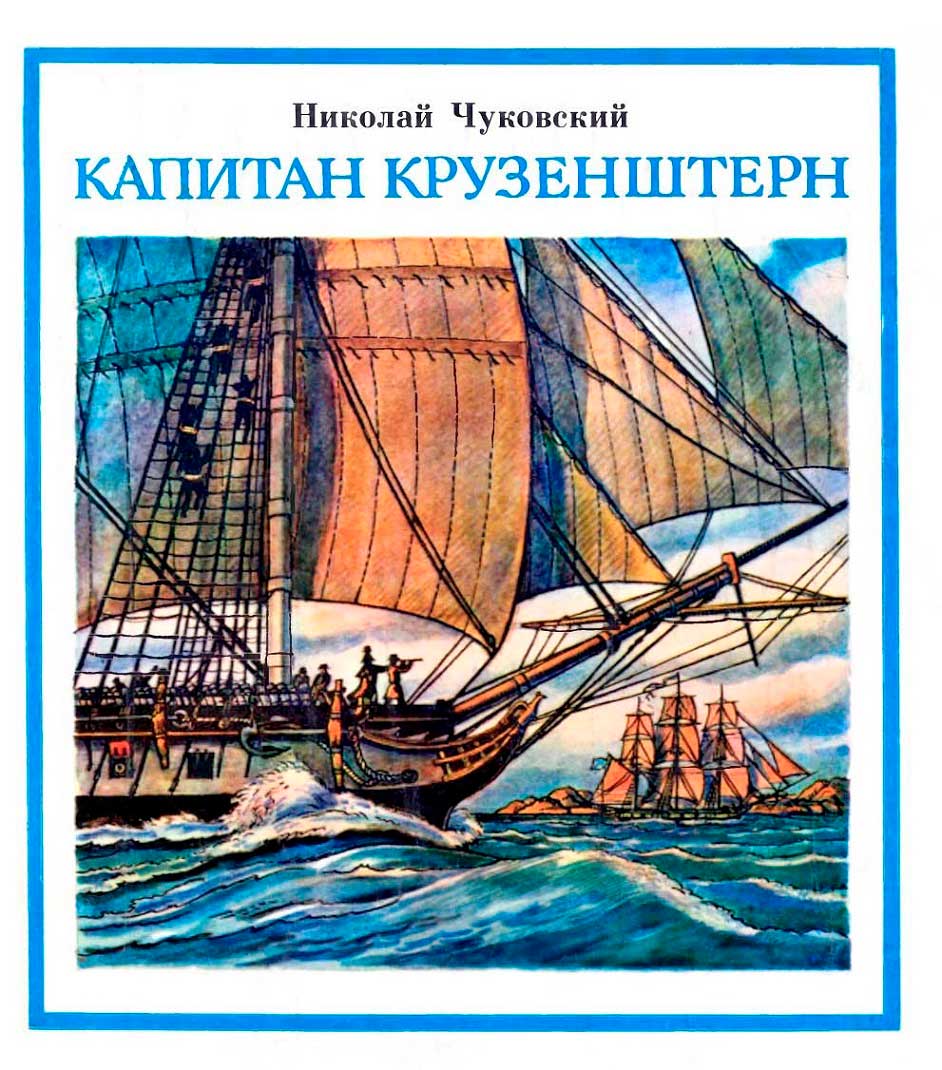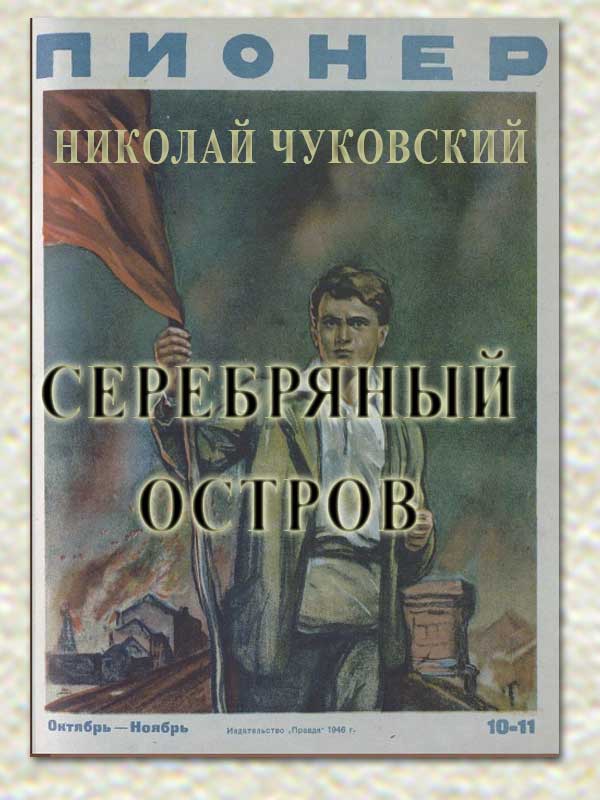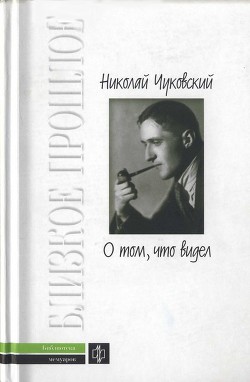менялись на глазах — голубое лиловело, лиловое розовело, розовое накалялось и становилось багровым, как пламя, багровое делалось золотым. Золотее всего было у той черты, где поле соединялось с небом, и я понял, что там через несколько минут взойдет солнце.
И внезапно я подумал о том, что мне давно не приходилось видеть восход солнца. Очень, очень давно. Когда я видел его в последний раз? Может быть, в детстве… Или на фронте.
И досада моя стала таять. Под этим ликующим небом меня вдруг охватило ощущение радости и свободы. Пестрая от цветов трава была мне уже почти по колено, и я с удивлением подумал, что вот ведь весна уже кончается, уже начинается лето. Я удивился, потому что в нынешний год как-то не заметил весны, — хотя отлично знал, что сейчас идет второй квартал года и что на предприятиях, входящих в систему нашего комитета, он идет с некоторым перевыполнением плана; правда, не таким большим, как мы ожидали… Жаворонок брызнул из травы, из-под самых моих ног, и пошел прямо по вертикали все вверх, вверх, вверх и вдруг замер и неистово затрепетал на одном месте, и запел, трепеща; оттуда, сверху, он уже видел солнце. Через полминуты я тоже увидел солнце, высунувшее невероятной яркости ободок над краем поля, и зашагал прямо к нему.
Аэродром со своими сооружениями, самолетами, бетонированными полосами остался далеко позади. А впереди, в километре от меня, поле упиралось прямо в небо. И я шел все быстрее, стараясь отгадать, что там. Скат? Обрыв?
Дойдя до края, я замер, пораженный.
Поле кончалось откосом, совершенно отвесным, уходившим в глубину метров на сто. Внизу под откосом была река — та самая, которую я видел с самолета; лучи только что вставшего солнца еще не коснулись ее, и вся она была покрыта мягкой шкуркой тумана. Противоположный берег реки был низкий, и отсюда, с откоса, видна была необозримая даль, уходившая во все более глубокую голубизну.
Я видел квадраты пашен, и полумесяцы лугов, и темные зелено-синие пятна громадных лесов, и прозрачные опоры электропередачи, похожие на великанов, гуськом уходящих за горизонт; видел пересекающиеся серые стрелы шоссейных дорог, и электропоезд, ползущий вдали медленно, как гусеница, и поселки с легкими, как на макете, домиками. У дальней речной излучины стоял завод. Он, вероятно, был громаден, но отсюда, отдаленный от меня на десятки километров, казался собранием колб, тиглей, змеевиков и пробирок на столе у алхимика. Дымились темные шатры его градирен; клубочки пара, отделяясь от них, медленно поползли над этим простором, в который я вглядывался со счастливым головокружением.
Смотреть мне приходилось сквозь живую сеть из ласточек. Их было множество; они с пронзительным свистом носились над краем откоса, иногда почти задевая меня. Их бесчисленные гнезда были у меня под ногами, в ямках отвесной глинистой стены откоса; они вырывались из них с силой снарядов и, как снаряды, влетали обратно. Да и все вокруг жило и двигалось. Кузнечики гремели в траве и делали огромные прыжки; некоторые вскакивали мне на плечи. Мохнатые шмели копошились в чашечках цветов. Синие стрекозы замирали в воздухе на одном месте; потом, метнувшись, как по команде, в сторону, снова замирали. И скоро обнаружилось, что я в этот час не единственный человек на откосе.
По тропинке, протоптанной в траве вдоль края откоса, медленно двигалось странное сооружение. Кресло на двух велосипедных колесах по бокам. Кресло катилось потому, что его толкал сзади худенький мальчик лет десяти — одиннадцати, в коротких штанишках. Кто-то сидел в кресле, закутанный в шаль или в одеяло; сначала по этой шали мне показалось, что женщина. Но когда кресло подкатило ближе, я разглядел, что это мужчина. Старик.
Откуда они взялись здесь — старик и мальчик? Метрах в трехстах от себя, над откосом, увидел я железную крышу приземистого домика. Кроме крыши, ничего не было видно, потому что домик был весь закрыт белым облаком вишневых деревьев в цвету. Мне подумалось, что кресло на колесах выкатилось как раз из этого домика. Мальчик толкал кресло прямо ко мне и остановил его в пяти шагах от меня. В меня внимательно вглядывались две пары глаз — ребенка и старика.
Это был очень старый старик. Большой голый череп обтянут коричневой кожей, коричневое длинное лицо в глубоких морщинах. Еще когда кресло катилось, я заметил, как беспомощно моталась его голова при каждом толчке. Ноги, закутанные в одеяло и опущенные на прилаженную снизу дощечку, были совсем неподвижны. Сидя в кресле, он казался небольшим и ссохшимся; но если бы он встал на ноги и распрямился, он был бы человеком высокого роста. Особенно поразили меня его руки, бессильно лежавшие на подлокотниках; очень крупные и очень старые коричневые руки со вздутыми плетями толстых жил, с утолщениями на всех суставах длинных пальцев. На безымянном пальце правой руки было два золотых кольца, как иногда носят вдовцы.
Старик и мальчик приблизились ко мне, вероятно, просто потому, что я оказался на том самом месте, где они привыкли останавливаться каждое утро. Возможно, я им помешал своим присутствием. Мальчик, кажется, смотрел на меня с недовольством. Да и старик без особого удовольствия устремил на меня светлые выцветшие глаза с острыми пронзительными зрачками. Но тут над аэродромом появился огромный, сверкающий белизной лайнер и пошел на посадку. И мы все трое задрали головы. Когда лайнер сел и побежал по аэродрому, старик проговорил пренебрежительно:
— Летающий шкаф.
— Как вы сказали? — удивился я, думая, что ослышался, так как моторы севшего самолета все еще гремели.
— Комод летает, — повторил старик в кресле. — Большой летающий ящик.
«Э, да ты старый ворчун, — подумал я. — Привык смолоду ездить на телегах, и теперь тебе самолеты не нравятся».
— Авиация существует около семидесяти лет, — сказал старик, когда моторы утихли, — и все эти семьдесят лет я время от времени читаю в газетах, что человек стал крылат и научился летать. При этом чаще всего поминают древнюю сказку про Дедала и Икара: вот, мол, прежде люди летали только в сказках, а теперь на самом деле. И все семьдесят лет ошибаются. Между нашими полетами и полетом Дедала никакого сходства нет. Дедал, хоть и в сказке, а сам летал; мы же с вами садимся в летающий ящик, и ящик летит, а не мы. Нет, человек еще не научился летать, он даже не начал учиться. Человек и на аршин подняться не может. Вот кто летает, — он взглянул на проносившихся над обрывом ласточек, — а не люди.
Я по-прежнему считал