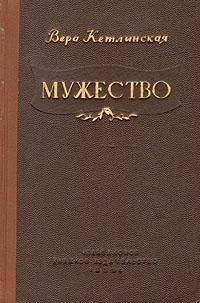Он оторвал руку от места, где была побита царская Россия, и снова уткнул карандаш в красную мерцающую точку будущего города.
– Вы едете решать одну из важнейших задач обороны. И вы ее решите. А вместе с тем это одна из важнейших задач освоения края. Это новый центр, столица тайги. Это дружеская рука, протянутая Сахалину, Камчатке, Колыме, Николаевску… – он помолчал. Сунул карандаш в карман. – Ну вот что, ребята. Вы – комсомольцы. Большевики. Надо понять и прочувствовать: работы столько, что вздохнуть некогда. Темпы самые напряженные. Не мы их придумали, их диктует международная обстановка… Условия будут поначалу тяжелые. Но край того стоит. Край богат и прекрасен, надо только освоить его. В каждой сопке золото – были бы силы его добывать. Да что золото!
Он шагнул вперед и взял Андрея Круглова за плечо.
– Что золото! – повторил он с пренебрежением, отпустил плечо Круглова, потрепал другого парня по руке, мимолетно обнял третьего, пощупал мускулы четвертого. – Что золото! – повторил он снова. – Люди у нас дороже золота. А без человечьей руки и золото, и нефть, и уголь – ничто.
Он неожиданно засмеялся, и веселые морщинки побежали по его лицу.
– Был у нас такой парень – Кирюша Попов. Послали его на Камчатку. Одного. Ворчал, чертыхался. Написал два слезных письма – рыбу не знаю, не справлюсь, культуры нет. Пробыл год, слезные письма писать перестал, все больше хвастался достижениями. Приехал в отпуск, опять закис: устал, говорит, переведите в Хабаровск или Владивосток. Мы его на два месяца – в санаторий. Смотрю – через месяц является: «Ну его к черту, лунные ванны принимать. Там пока путину завалят, потом не распутаешься». На самолет – и домой, на Камчатку. Вот уже второй год работает…
Нежность осветила его лицо, и все поняли, как близок и дорог ему Кирюша Попов.
– Вот и вам так надо. Мало создавать города – надо создавать людей. Большевиков, дальневосточников, энтузиастов, исследователей, горячих патриотов своего края.
Секретарь уже давно заглядывал в дверь.
– Ну, вот и все. Понять надо. И полюбить. С вами тут договора позаключали. На год, на два. Чепуха! Что вы сделаете за год? Вы – большевики. Смотрите правде в глаза. И готовьте других. Надо стать дальневосточниками, надо осесть, притереться, полюбить. Вот ваша задача.
– А вы к нам скоро? – спросил Андрей. Морозов засмеялся.
– Сами, сами, ребята, действуйте. Что, сил у вас мало? Не справитесь? Вы меня не ждите, вы сами молоды.
В дверь заглядывали ожидающие. Звонил телефон.
– Вот видите, мне еще тут дела расхлебать надо. Новый работник только завтра приедет… а впрочем, самолет – птица быстрая, соскучиться не успеете – догоню.
Андрей Круглов ушел из кабинета с ощущением, будто на его плече все еще лежала тяжелая и ласковая рука. Он пошел в столовую, и привычное шумное легкомыслие обедающих комсомольцев вдруг поразило его. Валька Бессонов на всю столовую требовал добавки. Катя швырялась хлебными шариками. Около Клавы Мельниковой царило возбуждение: после двухдневного знакомства парень из Усть-Камчатска сделал ей предложение. Клава отказала и была смущена: не подумал ли он, что она просто боится ехать в Усть-Камчатск?
Готовы ли они к тяжелым условиям борьбы? Как им сказать, что они не должны возвращаться домой ни через год, ни через два, что отныне их родина – незнакомый, суровый, необжитый край? Поймут ли они? Захватит ли их грандиозность задачи?
Андрей чувствовал тяжесть партийной ответственности за них всех перед человеком, который сказал ему: у нас людей меньше, чем золота.
Комсомольцы набросились на Круглова с вопросами: когда уедем, куда, что строить, как? Андрей вспомнил вопросы, которые хотел задать Морозову и не успел. Беседа была короче, сбивчивей, бестолковей, чем он ожидал. Но именно в этой сбивчивости и внешней бестолковости беседы было то настоящее, что взволновало Андрея. Морозов не сказал ничего конкретного о стройке. Он просто излил перед ними то, что чувствовал сам, – любовь к необжитому краю, тревогу, мечты, страстное желание, чтобы осели, притерлись, загорелись энтузиазмом люди…
Он отмахнулся от договоров, как от пустой бумажки, не заботясь о впечатлении. И он был прав. Мысль заронена. И требование…
Андрей вдруг, впервые за день, с острой болью вспомнил Дину… А что, если Дина откажется приехать?
Остаток дня он ходил отравленный сомнениями.
Поздно вечером Вернер собрал комсомольцев и сделал то, чего ждал Круглов от утренней беседы, – он подробно и обстоятельно, с цифрами и сравнениями, рассказал о задачах строительства. Андрей задал все свои вопросы. Но, слушая и расспрашивая, поймал себя на том, что смотрит на все новыми, проницательными, жадными глазами того человека, который утром так и не сказал о стройке ничего конкретного.
Вниз по Амуру плыли льды и пароходы.
Таких льдов комсомольцы еще не видали. Целые острова двигались по воде, крутясь и бултыхаясь. Они были громоздки, тяжелы, неповоротливы, они лезли друг на друга со скрежетом и гулом, разбрасывая по мутной воде тысячи вертких льдинок. Они воздвигали сказочные горы поперек Амура, налезая на еще не тронувшиеся ледяные поля и с грохотом обрушиваясь на берега.
Пароходы шли медленно, будто спотыкаясь, сразу вслед за льдами.
Когда основная масса льда проходила, берега казались израненными. Серые ледяные глыбы стояли дыбом, держась одна за другую.
– Красиво! – говорили комсомольцы.
– Смотрите, смотрите, какая красота! – кричала Катя Ставрова.
Зрелище было не только красиво – оно было сурово и страшно. Но об этом никто не стал говорить.
Отставшие льдины стукались о борт парохода. Иногда сверху, сквозь мутную воду, были видны очертания подводных льдин – их острые края казались таранами.
– Ничего, доплывем, – голосом знатока уверял Епифанов. Матросы заделывали пробоины, лениво ругаясь. Епифанов помогал им и рассказывал водолазные истории про раздавленные льдами, затонувшие и спасенные корабли.
Деревянный «Колумб» отстал. «Коминтерн» шел первым, нащупывая дорогу, и тянул за собою тяжелую перегруженную баржу.
У тихих селений и стойбищ подолгу стояли, так как впереди еще не тронулся лед. Весна и вода делали свое дело там, далеко впереди, где льды грохотали, трескаясь и налетая друг на друга.
На берег выходили нанайцы.
На них были расшитые меховые халаты. Комсомольцев интересовали их халаты, их черные, туго заплетенные косички и непонятный язык. Впрочем, нанайцы говорили и по-русски. Они кричали капитану:
– Твоя рано плыви!
Капитан отворачивался – нанайцы были правы.
Товарищ Вернер ходил по капитанскому мостику с биноклем. Он был диктатором ледового похода завоевателей. Он совещался с капитаном, утверждал меню обедов и каждый вечер собирал короткие совещания коммунистов и комсомольских бригадиров. В кают-компании не хватало стульев, ребята усаживались на полу. Все с уважением смотрели на подтянутую фигуру и строгое лицо товарища Вернера.
– Дисциплина никуда не годится, – резко начинал Вернер, оглядывая всех по очереди холодными светлыми глазами. – Работа с людьми не ведется. Разговоры. Слухи. Беспорядок. Прошу объяснить, почему вы допускаете подобные безобразия?
Безобразий, собственно говоря, никаких не было. Несколько сотен молодых людей, веселых и любопытных, были собраны на тесном пароходе и плыли уже четвертый день среди суровой природы в незнакомые места. Их кормили плохо, потому что плыть полагалось двое суток и продукты были на исходе. Комсомольцы обращали мало внимания на скудный паек, но они ни за что не хотели тихо сидеть в общих каютах и тихо гулять по палубе – их тянуло на капитанский мостик, в машинное отделение, они хотели все рассмотреть и пощупать. И они хотели спрыгивать на берег на каждой стоянке, чтобы попробовать ногой талую землю незнакомого края, чтобы разглядеть вблизи нанайцев и перекинуться с ними словом. Они хотели удить рыбу и стрелять пролетающих птиц. И они хотели шуметь, кричать, возиться, бегать, потому что энергия просилась наружу.
– Предупреждаю, – говорил Вернер, – за самовольный спуск на берег буду арестовывать. Я отвечаю за ваши буйные головы и буду поступать со всей строгостью.
Круглов смотрел на Вернера с восхищением. Вернер говорил коротко, его ударения были жестки, его глаза выражали сильную волю и самоуверенное спокойствие. Он немного рисовался строгостью, но Андрею нравилось и это.
– На красоту работает, – говорили комсомольцы.
После долгого безделья в пути и хабаровского томительного ожидания было приятно почувствовать себя в твердых, уверенных руках.
Но «безобразия» тем не менее продолжались.
Первыми подверглись наказанию Катя Ставрова, Костя Перепечко и Валька Бессонов, за дорогу совершенно прижившийся среди москвичей. У Кости Перепечко было охотничье ружье. Он подстрелил коршуна прямо с борта, хотя стрелять с борта было запрещено категорически. И в то время как выстрел взбудоражил весь пароход, сам Перепечко, Катя и Валька с визгом и ревом побежали спускать лодку. Подстреленный коршун бился на волнах, его уносило течением. Матросы не давали лодку. Катя со слезами убеждала их, что коршун погибнет. Но тут подоспел Вернер.