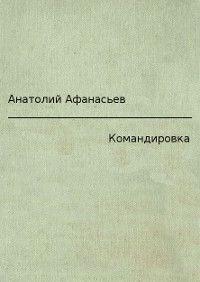— Очень приятно. Елизавета Марковна. Чем могу быть полезна?
— Я приехал по поводу нашего прибора, — сказал я еще громче, уставясь в пол. — Мне необходимо с вами поговорить.
— Здесь?
— Где угодно. Можно и в столовой.
Стоя в очереди к раздаче, мы вели с Елизаветой Марковной светский разговор. Она интересовалась новостями столичной культуры, я отвечал односложно, помогая ей управляться с подносом. У нее были неловкие руки — две тонкие жерди, наспех приколоченные к плоским детским плечам. Этими жердями она, того гляди, могла опрокинуть на меня помидорный салат, а то и дымящийся борщ, значившийся в меню под названием «Весенний».
— Значит, вы говорите, на Бронной ни одной стоящей премьеры?
— Какие сейчас премьеры — летом? Театры на гастролях.
— Я понимаю, что на гастролях. А зимой?
— И зимой не было.
— Так уж и не было, — приветливая, недобрая улыбка знающей себе цену ученой дамы. — Я была в январе в Москве. Две недели. И смогла попасть в театр всего один раз. Везде огромные очереди, аншлаг.
— Очереди есть, а премьер нету.
— Мне кажется, вы преувеличиваете, — мудрая улыбка на устах. — Москвичи, как правило, избалованы, Виктор Андреевич. Знаете, если люди работают на кондитерской фабрике, они обычно пресыщены всем сладким. А нам, приезжим, хотя бы какой–нибудь леденец пососать, и то большая радость.
— Пресыщены — это которые на фабрике приворовывают, — возразил я, увернувшись от падающего компота.
Шура стояла впереди и каждое мое замечание встречала осуждающим хмыканьем. В зале — огромном, светлом, с букетиками цветов на пестрых клеенках — было многолюдно, шумно, но очень чисто. Чистота была здесь самостоятельным явлением, как бильярд в строительной конторе. Она бросалась в глаза, как дерзкий разрез юбки.
— Шура, разрешите, я заплачу за ваш обед, — сказал я. — Не стесняйтесь, у меня деньги шальные, командировочные.
Она не ответила, но с таким треском раздернула молнию на своем кошельке, что я испугался, не поранила ли она себе пальчик. Ее искренность была подобна самоослеплению.
Я замечал, люди иногда бывают чище и величественней в неприязни, чем в любви.
Догадываюсь, как любят такие девушки; скорее всего, фальшиво и заумно, со множеством уловок и черепашьей медлительностью; а вот неприязнь ко мне вспыхнула в ней с бесшабашной откровенностью, стремительно, как грозовой ливень. Когда мы расставляли тарелки, Шура держалась подчеркнуто независимо, будто намеревалась сесть за соседний стол. И поднос свой мне не доверила отнести, отнесла сама в дальний угол, где над столом торчала веселая табличка: «Место для использованной посуды», и, возвращаясь, сделала солидный крюк, лишь бы не прикоснуться ко мне невзначай.
— Ну-с, — сказала Елизавета Марковна, блеклой усмешкой давая понять, что от нее не ускользнула сложность наших с Шурой отношений. — О чем же вы хотели меня спросить, Виктор Андреевич?
— А вот о чем, — ответил я, зачерпнув ложку густого весеннего борща и держа ее над тарелкой. — Даже не знаю, вдруг вы обидитесь.
— Что за церемонии. Смелее, дорогой московский гость!
— Разрешите говорить прямодушно? Как с коллегой.
— Буду только рада.
В какой раз за сегодняшнее утро я увидел вариацию презрительно–ироничного понимания.
— Блок, который вы делаете для нашего прибора, Елизавета Марковна, слов нет — всем хорош. И его заслуженно выдвинули на премию. Я бы с удовольствием уже сегодня поздравил вас с успехом и почестями, если бы не одна мелочь. Из–за этого блока прибор не работает. Ну, не совсем, конечно, не работает, а как бы сказать — не тянет на полную катушку… — тут я сделал паузу и откушал пару ложек борща. — Иными словами, Елизавета Марковна, блок–то с брачком. Попросту говоря, обмишурили вы заказчика, на мякине провели.
Шура Порецкая поперхнулась густо наперченным помидором.
— Запейте лимонадом! — сказал я и поспешил подать ей стакан, который она не заметила, заглядевшись на лицо Елизаветы Марковны. И было на что заглядеться. За секунду до того очаровательно светская, по–хорошему насмешливая, улыбка вдруг заморозила щеки и уголки губ и окружья бровей инженера Шацкой, и весь ее облик напоминал теперь зимний каток на Чистых прудах.
На мгновение я почувствовал себя виноватым, но только на мгновение. Шацкая, конечно, была в курсе неисправности узла — она правая рука Капитанова. Кто угодно, но не она. И поэтому я должен был каким угодно способом вывести ее из состояния благодушной созерцательности. Разумеется, нагловатый наскок — не лучшее, что можно придумать, так ведь и времени у меня мало.
— Повторите, пожалуйста, что вы сказали? — попросила Елизавета Марковна.
— Бракованный поставляете нам комплект, — повторил я с большой готовностью. — Хуже некуда.
— Вы можете это доказать?
— Смогу, если вы мне пособите, Елизавета Марковна. А без вашей помощи вряд ли. У меня не семь пядей во лбу. Мои товарищи не смогли доказать, и я не смогу. Но ведь это ничего не значит. Обмануть можно даже Перегудова Владлена Осиповича — а это, замечу в скобках, замечательный в своем роде специалист, — государство нельзя водить за нос… Вы почему не кушаете, Шура? Такой вкусный супец…
За столом воцарилось гнетущее оцепенение, молчание нарушало только мое смачное интеллигентное прихлебывание.
— Вы отдаете себе отчет? — спросила Елизавета Марковна, необычно понизив голос.
— Отдаю, — сказал я. — Вполне.
Застать врасплох Елизавету Марковну было так же трудно, как поймать на голый крючок столетнего пескаря. Дело не в том, что крючок голый, а дело в том, что старый пескарь частенько страдает отсутствием аппетита.
— Вы странный товарищ, — сказала наконец Шацкая, приступая к трапезе. Я, кажется, должна бы наговорить вам резкостей и пойти нажаловаться, но мне почему–то не хочется это делать. Вам поручили невыполнимую задачу, в общем–то, поставили под удар, но вы решили доказать, какой вы прекрасный работник. Так? И вы бросаете обвинения, за которые можно привлечь к ответственности в официальном порядке. Но я понимаю мотивы, которые вами движут… Давайте забудем этот разговор, пообедаем и разойдемся с миром. К сожалению, после того, что вы сказали, я не смогу поддерживать с вами доверительных отношений.
— Вы же знаете, что я прав.
Елизавета Марковна спокойно положила ложку, мило улыбнулась Шурочке, кивнула кому–то вдаль, не говоря ни слова, встала и поплыла меж столов. Чудно двигалась ее плоская синяя фигура, огибая острые углы. Наивная угловатость задержавшегося в своем развитии подростка, изящная головка на высокой шее, кланяющаяся вперед при каждом шаге, — это было по–своему красиво, но оставляло привкус горечи.
— Виктор Андреевич, а вы не псих? — беспомощно спросила Шура. — Вам не кажется?
— К сожалению, нет, милая девушка. Я очень уравновешенный человек. И очень несчастный.
— Почему же несчастный?
— Тот, кто ищет правду, всегда несчастен, независимо от того, найдет он ее или нет.
Шура сказала без прежнего отчуждения:
— Наверное, все–таки вы псих. Я даже представить не могла, чтобы кто–нибудь так вел себя с Елизаветой Марковной. Это ужасно! Она никогда вам не простит.
— Ничего. Я переживу.
Мы в молчании дообедали, я испытывал все большую благодарность к Шурочке за то, что она не ушла, сидит, ест и изредка посылает мне вежливые взгляды, в которых уже не серела вражда; за то, что она в недоумении, и за то, как она по–детски причмокивает, обсасывая косточки слив.
Я был благодарен ей за то, что она вне подозрений.
— Куда теперь? — вздохнула Шура, допив компот.
— На сегодня достаточно. Поедем купаться?
— Нет, — ответила Шура с ноткой сомнения, за которую я ей остался благодарен еще сто тысяч раз.
— Ну ладно, тогда в другой раз. Скажите, Шура, Шутов — холостяк?
— Опять вы начинаете…
— Да нет, это я по делу.
Она предупредила, округлив глаза:
— Вы с ним не связывайтесь лучше, Виктор Андреевич. Вот он уж точно псих.
— Все учтено могучим ураганом, — сказал я. — Против лома нет приема.
Шура нехотя улыбнулась, поддержав немудреную шуточку, и это было нашим прощанием на сегодняшний день. Дорогу к проходной я отыскал самостоятельно…
Я хочу быть понят тобой, Наташа, да и собой тоже.
В молодости я часто смеялся без причин, а потом это куда–то ушло. Смех, спасительный, как антибиотики, возникал во мне все реже, все осторожнее. И может быть, из всех жизненных потерь я больнее всего ощущал смеховую атрофию, неспособность к безудержному, всепоглощающему веселью.
Какая–то бесценная часть сознания перегорела и повисла во мне, как сожженные электрические провода.
Как мы смеялись в молодости с милыми моими друзьями, как утопали в чудовищном смехе, погружались в него с макушкой, чуть не погибали в нем, на поверхность вылезали обессиленные и скрюченные, но счастливые до изумления. Шмели смеха просверливали во всех нас сквозные дырки, через которые проникал в души упоительный ветер свободы, гулял и распахивал, как форточки, каждую клетку. Всякий день гудел вокруг нас праздничными колоколами, не давал передышки, обещал новые и новые удачи и откровения.