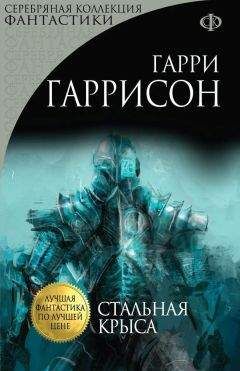Для всех нас эти высокие заработки немало значат.
У «старичков» — дети. У молодых -— матери, сестренки, братишки. Среди молодежи нашей бригады нет ни одного, у кого был бы жив отец.
Я в бригаде самый молодой. И отца я лишился последним.
Он умер два года назад от ран, полученных на фронте, от избиений, которыми «отделался» в Дахау.
Когда мы его похоронили, дядя Петя, его школьный и фронтовой друг, позвал меня в свою бригаду.
Я не хотел вначале идти в эту бригаду. Подумаешь— землекопы! Тоже мне — романтика!..
Но дядя Петя очень серьезно сказал:
— Ты не пожалеешь, Славка! Поверь мне, старику!.. Не пожалеешь!
И я поверил ему. Все-таки он фронтовой друг отца!..
И через день после выпускного вечера я взял уже в руки лопату и ломик. Тогда было, конечно, обидно.
А сейчас уже привык. И даже нравится. И на самом деле не жалею!
Там, где мы работаем, всегда стоит вагончик. Наш, бригадный. Его возят за нами с места на место. Это очень удобно, когда есть вагончик. Удобнее всяких времянок.
Да на нас вообще-то времянок и не напасешься…
Мы — кочевники. Больше месяца редко работаем на одном месте.
В нашем вагончике есть все, что нужно, и нет ничего лишнего. Ни лишних вещей, ни лишних украшений.
Плакаты и лозунги, которые почему-то иногда присылают нам из постройкома, мы не вешаем на стены. Мы разглядываем их, а потом стелем на стол перед обедом.
Мы иногда целыми днями работаем в грязи. Может, именно поэтому нам очень приятно поддерживать чистоту в вагончике.
Однажды к- нам приехал председатель постройкома и спросил, почему мы не вешаем на стены плакаты.
— А сколько плакатов висит у вас дома? — спросил его в ответ я.
Он ничего не ответил. Он рассмеялся.
Но мне этого показалось мало, и я опросил снова:
— А у вас в квартире есть стенд с социалистическими обязательствами стройтреста?
Он засмеялся еще сильнее и больше не спрашивал о плакатах. Мы думали, что он больше и не пришлет их. Но он почему-то по-прежнему их иногда присылает.
Однако кое-что на стенах нашего вагончика все-таки висит.
Возле окна приколоты кнопками две репродукции с картин Шишкина. Разумеется, не осточертевшее всем «Утро в сосновом бору», а просто хороший русский лес
на закате. Эти репродукции приколол наш бригадир Евгений Иванович Китов. Лес — его слабость...
Когда-то, страшно давно, еще мальчишкой, он- мечтал выращивать на земле леса. Даже учился в Лесном институте в Киеве. Но лесоводом так и не стал. Ушел с первого курса на фронт, а после войны все строил, строил, и учиться ему было некогда — жена, детишки,
то, се...
Он сам рассказывал нам про свою жизнь в один из морозных дней, когда мы не могли работать и торчали в вагончике, отстукивая от нечего делать «козла». И все мы сочувствовали бригадиру и понимали, что теперь менять профессию поздно, потому что жизнь сложилась, детей много, и осенью мы уже справили его сорокалетие.
С другой стороны окна в нашем вагончике до сегодняшнего дня был приколот портрет киноартистки Эллы Леждей. Ленька Степанов вырезал его из обложки журнала «Советский экран» и повесил в вагончике, потому что повесить его дома Ленькина жена не разрешила.
Мы, конечно, не возражали. Элла Леждей и нам очень нравится. Красивая женщина.
Есть и еще одно украшение в нашем вагончике. Оно висит на стене против окна, в коричневой рамке и под стеклом. Это небольшая грамота, в которой говорится, что бригаде, руководимой Е. И. Китовым, присвоено звание коллектива коммунистического труда.
Эта грамота появилась здесь давно. Для меня давно. И для Леньки Степанова. И для Федора Калугина.
И еще для Олега Стрешнева. Потому что все мы ппишли в бригаду уже тогда, когда Фрамота висела.
Ленька пришел из армии. Федор приехал из деревни.
А мы с Олегом пришли из школы.
Я, в общем, понимаю, что такие грамоты не дают зря. Их не высидишь, как иную должность, на совещаниях, не выговоришь с трибуны и не выходишь, шатаясь по чужим кабинетам. Их нужно заработать руками.
И потом.
Наши «старички» честно заработали эту грамоту.
И поэтому им, конечно, тяжело снять ее теперь со стены.
Но, если бы я был бригадиром, я бы все-таки сейчас ее снял. По крайней мере, до тех пор, пока не
сдвинутся у двух членов нашей бригады какие-то шарики под черепной коробкой.
Сегодня мне стыдно глядеть на эту грамоту. Но я молчу. Не мне говорить о ней. Решать должны «старички ». А они тоже молчат. Они вообще у нас неразговорчивые, когда что-то случается...
Мне кажется, я понимаю, почему они молчат. Просто привыкли к «показухе». Давно привыкли. Еще с молодости. Я не хочу их обвинять в этом — такое было время. А если к чему смолоду привыкнешь — отвыкать трудно. Это мне часто говорил отец.
Молчат наши «старички». И даже не глядят на грамоту на стене. И не разберешь по их лицам, что они думают. Даже у дяди Пети, которого я давно и хорошо знаю, обветренное, изрытое оспинами лицо ничего не выражает. Оно спокойно и невозмутимо, как будто ничего не случилось. Он неторопливо заворачивает оставшийся от обеда бутерброд, неторопливо вынимает
сигарету, закуривает, и лицо его исчезает в облаке дыма.
... В прошлый вторник, когда все это начиналось, у наших «старичков» были такие же невозмутимые лица...
Мы работали в прошлый вторник в сараях. В обыкновенных индивидуальных сараях. Деревянных, крытых толем и шифером, новеньких, еще даже не потемневших, потому что и дом возле них был новым — только прошлым летом сдали.
Мы тянули под этими сараями канализацию к экспериментальному цеху одного научно-исследовательского института. Институт этот построили недавно, и когда-то наша же бригада вела к нему ветку водопровода.
А теперь в этом институте конструируют кибернетические машины, и вот ему понадобился экспериментальный цех.
С утра шел дождь. Он то затихал, то начинался снова, и не было никакой надежды на то, что погода переменится. Небо было темно-серым, низким, без единого голубого просвета. Земля, которая еще не высохла от недавно сошедшего снега, размякла, расплавилась...
В общем, понятно, какой бывает земля во время одного из первых апрельских дождей.
Такие дни положено актировать. Но у нас в бригаде не любят актировать дни. У нашего бригадира чаще всего есть в запасе какая-нибудь работа, которую можно выполнять либо в дождь, либо в сильный мороз.
В это утро Китов сказал, что мы будем тянуть канализацию под сараями.
Мы взвалили на плечи свой нехитрый инструмент и пошли к этим самым сараям. А потом, пока Китов бегал с комендантшей дома по квартирам и добывал у хозяев ключи, мы подтаскивали к сараям коричневые керамические трубы.
Все было так же, как и обычно бывает при такой работе.
Складывали на одну сторону сараев хозяйское барахло— всякие доски, ржавые керосиновые бидоны и полусгнившие ящички для кошек. Потом рыли траншею и спускали трубы. К обеду мы успели уже в четырех сараях засыпать траншею и переложить хозяйские
ящички и бидоны на прежнее место.
Полная, краснощекая комендантша бегала из сарая в сарай и ахала:
— Отродясь еще не видела таких строителей! Другие разроют и уйдут. И жди, пока зароют... А тут за один день...
Мы посмеивались и продолжали работать. Если бы был сейчас на участке наш суматошный мастер, мы оправдали бы худшие надежды этой толстухи-комендантши.
Мастер не позволил бы закрыть траншею, пока трубы не будут опробованы,- Он знает, что мы кладем линию на совесть, что мы не положим в траншею треснувшую трубу и не забьем стык тряпкой или комком глины. И все-таки он боится закрывать траншею до
испытаний.
Но мастер сидел в тот день в конторе участка и копался в нарядах. Он не любит ходить по объектам в дождь. А нам стыдно перед людьми оставлять сараи разгромленными. Поэтому мы закрыли траншею, чтобы не мучить людей еще добрых две недели.
Когда прибежали на обед хозяева и заглянули в свои сараи, мы снова наслушались всяких «ахов» и разговоров о том, что здесь еще не видели таких строителей.
А один деятель в синих галифе и расстегнутом синем плаще с ходу взял быка за рога и предложил
нам не заниматься после обеда траншеей, а вырыть у него в сарае погреб. Больше, мол, заработаем.
Я поглядел в его рыхлое, испитое лицо, в его маленькие, заплывшие глазки и подумал, что он, должно быть, «руководит» какой-нибудь базой или складом и ему, бедняге, негде хранить ворованные продукты.
Разговаривать с ним мне не хотелось. Я опустил голову и снова заработал лопатой. И в это время
Ленька Степанов, выпрямившись во весь свой «пятый» рост, откинул со лба русые волосы и на полном серьезе спросил:
— А сколько дашь за погреб?