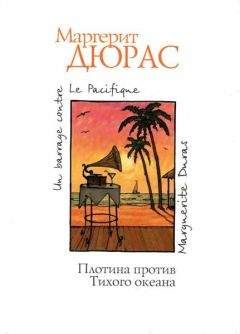Но крики туристов, отраженные скалистыми берегами, что-то в нем все же нарушили, всколыхнули. Вдруг выросли перед его внутренним зрением, все заслонив собою, другие скалы — памятные красноярские «Столбы», незабываемая дорога к ним. И возникла не в первый раз Ева со своим микрофончиком: «Это у вас воскресный отдых или спортивное увлечение?» А вслед за этими простыми словами начали прорываться из прошлого совсем другие и совсем не простые уже: «Ты — третий, Юра… Ты даже четвертый… Ну а как же еще считать? Рядом со мной — двое, ты знаешь, и они сейчас от меня зависят… Нет, Юра, страшно все это, нельзя — ты пойми это! Мне ведь еще труднее. Женщине всегда труднее — она ведь за всех отвечает: и за детей своих, и за мужа, и за того человека, то есть за счастье того человека, который зовет ее от мужа, от ребенка». (В глазах ее стояли слезы, на лице застыло страдание, в голосе звучала то мольба, то жалоба, но в то же время чувствовалось: она и на этот раз не уступит.) «Ты сильный, Юра! — продолжала она. — Ты самый сильный из нас четверых, я чувствую это, и ты — самый свободный». — «Самая сильная сейчас, наверное, ты», — сказал Юра. «Ой, не сила это, не сила, а горе…»
Слезы наконец пролились из ее пронзительных страдальческих глаз, и она как-то странно, одними пальцами, кончиками пальцев начала вытирать их — как будто собирала в горсть. И еще попыталась улыбнуться. Ей не хотелось расставаться в обиде, непонимании или обозлении. Она даже готова была повернуть все «по-современному», когда легко сходятся и легко расстаются, оставляя надежду на будущие встречи. «Тебе хорошо сейчас? — не раз спрашивала она его. — Ну и не будем отравлять друг другу эти святые часы. Я сейчас все равно как в полете. Ну и пусть несет нас это воздушное течение. Полетаем пока…»
Юра от таких слов сердился. В нем собиралось что-то взрывчатое и темное. «Я для тебя — четвертый, но ты-то для меня одна! — почти кричал он от обиды и безнадежности. — И я не из тех, чтобы делить… или делиться!»— «Если ты меня любишь сейчас… — начинала Ева, и вся его ярость гасла, он снова готов был слушать и говорить о любви. — Если ты меня любишь — пусть нас несет куда-нибудь вдаль…»
Он вспоминал, а Река несла его на своей бугристой спине, поворачивая лодку по своей прихоти. «Пусть несет», — думал он о Реке и о жизни, и ему ничего уже не хотелось менять. Пусть несет…
Впереди стал слышен мощный шум воды. Оказывается, лодку прибило к правому берегу и несло в бурную протоку между береговыми камнями и высокой осклизло-черной скалой, что стояла в воде отдельно. Юра схватился за весла.
Но раньше, чем он начал грести, его вдруг поманило в этот кипящий бурун, в этот проран — и будь что будет! Пусть несет. На разлом так на разлом, на распыл так на распыл. Пусть несет. Есть гибельная радость водоворота…
Всего лишь секунду продержалось в нем это состояние, но ее хватило для того, чтобы упустить момент: лодку протащило через бурун, как по булыжнику, и выбросило на спокойную быстрину… Всего лишь мгновение, однако запомнилось оно, запечатлелось в памяти, как в сургучном конверте, — на долгое хранение. Может быть — на всю жизнь. Может быть — в назидание, может — для другой какой цели, еще не известной сегодня…
Все разговоры и молодежный треп за перемычкой оборвались как по команде. Гулкий толчок встряхнул землю, отозвался даже на воде в лодке.
— Смотрите, смотрите! — закричали девчонки.
На верху левобережной скалы, на врезке, распустился в это время веерообразный черный цветок, на глазах начал разрастаться, расширяться каждым лепестком и заодно, словно бы под возрастающей своей тяжестью, клониться книзу, в котлован. Стало слышно, как по плотине, по тугой земле, по кабинам кранов замолотили крупные и помельче камни, а когда они свое отбухали, вниз, по уже отработанной чистой врезке, по этому каменному ложу, в которое упрется плечо плотины, поползла с громким шорохом земляная, тоже с камушками, лавина, потом из нее вдруг вырвался и запрыгал вниз, с каждым прыжком все дальше отскакивая, запоздалый большой валун и гулко бухнулся за плотиной, там, где варламовские ребята уже начинали бетонировать круглые, точно рассчитанные основания под будущие энергоблоки… Очень скоро выяснится, что он там натворил.
Текущая, шуршащая по врезке лавина тоже постепенно разрасталась, распространялась во все стороны серым пылевым облаком. Запах сгоревшей взрывчатки и прокаленной на страшном огне земли почувствовался и здесь, за перемычкой. Кто-то на берегу закашлялся, кто-то чихнул, а девушка-студотрядовка в новенькой чистенькой курточке удивленно и почти радостно вскрикнула:
— Ой, ребята, смотрите, вы сразу все загорели!
Николай Васильевич и Юра, люди опытные, не торопились выходить из лодки: у воды воздух все-таки почище и посвежее. Они уходили отсюда последними. Но и на их долю осталось достаточно пыли и гари. Пока они дошли до своего переносного домика, их лица и руки покрылись тонким наждачным слоем.
— Ты можешь ехать домой, а я уж пойду расстраиваться, — сказал Николай Васильевич у домика.
— Может, наоборот, шеф? — предложил Юра. — Мы ведь только что говорили.
— О том и говорили…
Нет, такого «шефа» не вдруг отодвинешь от его дел, забот и расстройств. «Трудновато вам с ним придется, Михал Михалыч».
Юра оставил в прорабской каску, помахал рукой Гере и Любе, которые не торопились домой, и вышел. Увидел отца. С неспешной возрастной своей степенностью направлялся «шеф» к этажерке.
В тенистом ущелье проезда, где и в жаркий день бывает прохладно и сыро, Юре стали попадаться навстречу ребята из вечерней смены, задержанные взрывом на подступах к котловану. А впереди, по всей дороге, вразброд и вразвалочку уходили те, кто отработал свое в дневную смену, на солнцепеке.
Еще из проезда Юра увидел знакомый штабной домик, и не узнал его. Все стекла в нем были выбиты, и дом смотрел на мир пустыми темными глазницами, казался брошенным, нежилым. Над крышей понуро висел потемневший и потрепанный, как после боя, флаг. Невольно думалось о каком-то бедствии и бегстве — и о том, не пострадал ли кто из его знакомых штабных?
Эти взрывы и в самом деле как бедствие, от них и в самом деле бегут и прячутся, бросая работу и механизмы. До сих пор в котловане пахнет тревогой и гарью. Под левым берегом, рядом с фундаментами первых гидроагрегатов, насыпало взрывом изрядную горку породы, и туда все еще стекала струя земли и мелких камушков. На крайних блоках плотины тоже наверняка насыпало камней и вообще натворило недобрых дел. Что-то могло залететь и на довольно далекий второй участок — не зря «шеф» пошел проверять…
Юра вдруг остановился и подивился спокойствию, с которым он тут обо всем рассуждает. Подивился своему душевному благополучию. Секунду-другую постоял, словно бы что-то вспоминая, и повернул обратно. Как будто что-то забыл.
Отца он нашел в третьей, обычно не выделявшейся среди других, «тихой» бригаде. В блоке шли спешные работы по спасению бетона от преждевременного схватывания. Ребята расстилали на критическом участке бетона брезент и смачивали его водой; бригадир Степан Дуняшкин, неприметный, небольшого роста мужичок, то и дело поглядывал через выгородку вниз и кричал стропалю, чтобы тот скорее подавал новый бетон, чтобы закрыть им старый, а стропаль кричал, на кого-то сердясь, что «белазы» к нему не подходят… Юра сообразил, что тут как раз для него наклевывается работенка. Быстро скатился по этажерке вниз, остановил у проезда первый же «белаз» и привел его к стропалю третьей бригады. Пришлось, конечно, поуговаривать шофера и кое-что приврать, но блок стоил того…
Было уже семь часов вечера, когда Густовы, отец и сын, возвращались домой. По дороге Николай Васильевич спросил:
— Ты зачем вернулся-то?
— Устыдился, — честно признался Юра.
— Я же тебя отпустил.
— А мне и самому можно было сообразить.
— Это, конечно, никогда не вредно.
Они помолчали, пожалуй, оба довольные, что обменялись этими словами.
— В общем-то молодец, что вернулся, — добавил потом, для завершения разговора, Николай Васильевич. — И помог, и показал себя хозяином.
Последние слова были, наверное, не обязательны, но Николай Васильевич во всем любил полную ясность и завершенность.
8
В поселке, когда поравнялись с популярным кафе «Баргузин», Юра потрогал усы и предложил:
— Зайдем, промоем горло.
Но Николай Васильевич отказался:
— Ты мне домой принеси пивка. Если будет.
И очень хорошо, что он не зашел! Потому что едва Юра обвел взглядом дальние от дверей столики — есть ли свободное место? — как увидел Надю, уже чуть-чуть под хмельком и в довольно веселой компании. Правда, стол был у них без мужчин, но зато какие-то ухари перегибались и тянулись к ним из-за соседнего стола. И был среди этих ухарей хорошо запомнившийся Юре «индеец», с которым он так ловко сыграл недавно в карты. А Надя пировала со своей товаркой из отдела рабочего проектирования Лилей и с какой-то еще молодой женщиной, вроде нездешней.