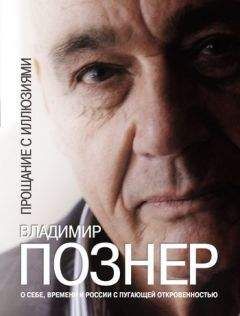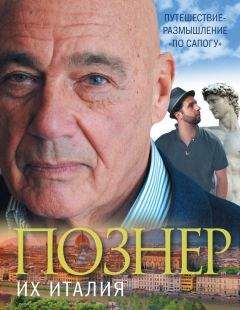— Это опять ты? Выпустили или убежал?
Черная и острая щетина, и в щетине горят черные и острые глаза.
— Ты Красный Дракон! Ты!
Поручик Жарков отступал к обрыву. Еще шаг — и упадет.
Остановился. Вынул из кобуры револьвер.
— Брысь, собака!
— Ты Красный Дракон! Ты!
Поручик Жарков выстрелил. Закраснелась щетина.
— Господи, в руки Твои предаю дух свой!
Поручик Жарков спихнул ногой труп в обрыв. Труп повис на верхушке дерева — красной щетиной в небо. И в красной щетине — большие невидящие глаза.
Палкой Жарков тянулся к трупу — спихнуть. Труп зацепился крепко за верхушку дерева — красной щетиной в небо. Может быть, еще жив. Поручик Жарков выстрелил еще раз и пошел к усадьбе. Вернулся, выстрелил еще, и еще, и еще. И еще щелкал курком разряженного револьвера. И не мог остановиться.
Замшалов вздрогнул, сломался, согнув плечи. Остановился.
— Слышите? Слышите? Я хочу в Москву.
И Чечулину так страшно стало — такое страшное поле за рекой, такое зеленое, и такое большое, и такое пустынное.
Замшалов выкрикнул в поле сорвавшимся впервые голосом:
— Рваная сволочь!
А поручик Жарков стоял на обрыве и щелкал курком уже разряженного револьвера.
После обеда, сытного, изготовленного глухой стряпухой, Замшалов сказал Жаркову:
— Ехать в город нужно. Отпуск продлить. Еще на полтора месяца в отпуск. Вернусь через неделю.
XVII
Аня из отдела пропусков, как мыша, — по городу. Увидела в окне магазинном: творожники, лепешки и духи. Влетела, проглотила творожник, лепешку и купила духи. И опять магазин. Там тоже духи. Купила духи и там. А в третьем магазине зачем-то продала духи — и втрое дороже, чем купила. Творожники и лепешки вышли даром.
Как выручить? А может быть, никто и не докопается, в чем дело. А вдруг докопается.
На Тверском бульваре подошел к ней коричневый человек, приподнял вежливо, по-старинному, широкополую шляпу.
— Вы супруга бывшего камер-юнкера Руманова?
— Да.
— Очень приятно. Сядем в таком случае на скамейку, если вы супруга бывшего камер-юнкера и коммуниста Руманова.
— Да.
— Вот так. Очень приятно. Разрешите закурить в таком случае?
— Да.
— Благодарю вас. Мне с вами очень приятно поговорить, если вы супруга бывшего камер-юнкера Руманова. Меня очень волнует судьба мужа вашего.
— Да.
— Очень волнует.
Коричневый человек тоненькой струйкой пустил дым в воздух.
— Никто нас не видит и не слушает. И мы поговорим с вами в таком случае.
— Да.
— Вот и поговорим с вами о вашем муже.
— Что поговорим? Как поговорим?
Аня заерзала на скамейке, как мыша, — улизнуть, спрятаться в нору.
— А вот поговорим. Меня очень волнует судьба вашего мужа. Очень волнует.
— Он ни в чем не виноват!
— В этом я уверен, что он ни в чем не виноват. Я слишком его ценю. А все-таки очень волнует. Поговорим подробнее о муже вашем бывшем камер-юнкере Руманове.
Очень трудно выдержать разговор с коричневым человеком. И глаза, и сердце — как мыша — бегают.
— Да он не виноват! Он только теперь узнал и… Это все…
И все выложила Аня — про Жаркова. Только про Жаркова. Остальные — обмануты, потому что вполне законно.
— И муж мой, бывший камер-юнкер Руманов, только вчера узнал и уже хотел…
— Благодарю вас.
Коричневый человек приподнял коричневую шляпу, и папироса зажата в левой руке между большим и средним пальцами, а указательный палец постукивает по папиросе — стряхивает пепел.
— Очень ценно. Благодарю вас. Очень ценные указания. Благодарю вас. И супруг ваш — бывший камер-юнкер Руманов — настоящий коммунист. Нам очень полезен был недавно. Контрреволюционера из деревни указал — по крестьянскому восстанию. Мы услали на место с предписанием соответствующим о допросе и дальнейших поступках. Настоящий коммунист. Очень ценный человек. Большой человек.
Окурок бросил в траву, за скамейку, чтобы глаза не видели, и приподнял коричневую шляпу.
— Очень вам благодарен. Очень ценные сведения.
Аня не мышь. Чувствует. Ничего коричневый человек не знал. И по мужику не догадался. Но коричневый человек тоже не мышь. Нюх хороший у коричневого человека.
XVIII
Мужики смотрели на усадьбу, смотрели друга на друга и молчали. Жена Назара вернулась в деревню и прошла по улице с плачем. Она сегодня узнала, что мужа ее расстреляли вот уж два месяца тому назад, и никто ей ничего не сказал. Она с плачем прошла по деревенской улице и всем рассказывала, что два месяца она работала для мужа и носила для мужа продукты, а продукты брали чекисты. Жена Назара с плачем говорила, что она два месяца работала на чекистов, расстрелявших ее мужа, и что нельзя отслужить панихиду, потому что церковь заколочена и поп далеко, на общественных.
Мужики молчали и собирались к церкви. И смотрели на церковь. А белая церковь молчала, и белая колокольня утончалась в небо, как немая жалоба.
На церковь смотрели мужики, а церковь была заколочена.
И мужики оглядывались на усадьбу, и почтеннейшие поглаживали бороды.
Безносый взошел на паперть и попробовал оторвать доску от двери. На паперть взошел бывший председатель, горький пьяница, и дернул доску за другой конец. Почтеннейшие взошли на паперть и дергали доски. И уже зачернела паперть, и белая колокольня молчаливо пела в небо жалобу. И гулко упали доски. Отворилась дверь, и мужики вошли в церковь. Сыро было в церкви. И не пахло ладаном. И не было горящих свечей. Сняв шапки, стояли мужики в церкви и молчали. И смотрели туда, где утончалась в небо белая колокольня. Смотрели и ждали. И белая снаружи колокольня изнутри была черна, как ночь. Темно было в церкви и сыро. И не пахло ладаном. И не горели свечи. И поп был далеко, на общественных.
Мужики смотрели вверх и ждали. И в ночи белая колокольня, как нежная жалоба, утончалась в небо.
И разошлись мужики, черные и молчаливые, как ночь, плотно затворив дверь в церковь.
XIX
Опять тот же город, тощий, пыльный маленький город. Те же лица, но на лицах — ожидание. И толстая дама, встретившаяся на улице, говорила сама с собой:
— Неужели? Неужели? Не может быть!
Чечулин хотел сразу на вокзал, да прошел мимо двухэтажного светлого домика и вспомнил — брюки. Брюки с широчайшими галифе. А в комнате — дагестанец. И перед дагестанцем — водка.
Дагестанец не хотел пить. Дагестанец сидел мрачный, как ночь, и нахмуренный, как обрыв над рекой. И широчайшие галифе утолщались вокруг бедер.
Чечулин пил и думал, что отсюда нужно уехать. И что нужно добыть от дагестанца брюки с широчайшими галифе. А брюки спросить страшно, потому что дагестанец страшен, как ночь.
Пил, пил, пил, и в окно, из ночи, глядела Мушка. И в комнате была уже ночь. И на лице дагестанца — ночь. И в душе — ночь. Чечулин пил. И чем больше пил, тем темнее ночь, темнее комната, темнее лицо дагестанца и темнее душа. И там, из темной и глубокой души, утончалась в небо жалоба. И росла, и отделилась от тела, и плыла в ночи. И эта жалоба — это он, Чечулин. Он, Чечулин, — эта жалоба, молчаливая, как ночь. Чечулин плыл в ночи и видел темное тело, беспомощно свисшее над столом. Видел голову, упавшую на стол щекой. А сам, светлый и нежный, как жалоба, плыл к Мушке.
И видел оттуда, сверху, где нежный свет и успокоение, — видел, как дагестанец повернул голову, свисшую на стол, и ножом срезал усы. И от боли упал книзу, в темное тело. Руками схватился за лицо и заплакал.
— Брат мой, за что?
И мял руками голое обиженное лицо, и плакал. И уже рвалась ночь, и рвалось небо, бледнея, и рвалась душа, истекая черной кровью.
Вышел на улицу и, шатаясь, шел по улице, по широкой дороге, и плакал. Поле и лес, поле и лес, сменяясь, молчали. Чечулин плакал, идя к усадьбе. И перед тем как отворить дверь, отер слезы и, руками ощупав голое лицо, опять заплакал. И с плачем вошел к Жаркову.
Жарков сидел за столом у окна и прислушивался к тишине. А в пристройке, рядом с усадьбой, отряд готовился к бою.
— Брат мой!
— Ты, Чечулин? Здравствуй! Что это с тобой?
— Брат мой, мы предали тебя. Кончена моя жизнь. А тебя предали. Руманов тебя предал. Рассказал все в Че-Ка. Замшалов уехал в Москву и тоже хочет рассказать. А я не могу. Кончена моя жизнь. Коммунисты расстреляют тебя. В Че-Ка все известно. А Руманова и Замшалова простят. И меня простят. Но не хочу. Всё люди простят. А я не хочу! Брат мой, я не хочу!
— Белые идут, — ответил Жарков, глядя в окно и думая о телеге, которая увезла женщину. — Белые идут, — повторил он и подумал: «Она пожалеет».
А в Москве, в третьем этаже, на Козихинском, камер-юнкер Руманов сидел на мягком диване, обнимая Аню, и прижимался к Ане, дрожа. И женщина жалела толстое и рыхлое тело и говорила: