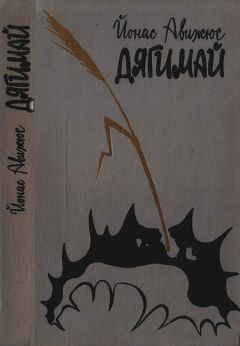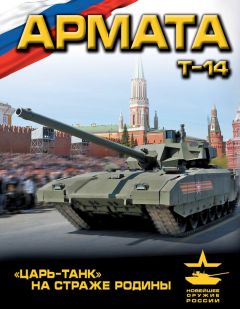Пуплесис не ответил.
— Доживаешь свой век, а не можешь понять, глупый ты старик, что овцам место в одном закуте с овцами, коровам с коровами и ни тех, ни других нельзя смешивать с волками, — уже мягче продолжал Адомас. — Мы — маленькая нация, живем между двумя исполинами, как горстка зерна между жерновами. Должны быть стальными, чтоб нас не перемололи. Наша сила — в единстве. Русские навязали нам классовую борьбу, науськивали брата против брата, чтоб мы перерезали друг другу глотки, — тогда им легче будет править. Кое-кто («скажем, господин комендант») и сейчас хотел бы (вести подобную политику, разумеется, с другого конца, но мы не позволим! Да, не позволим… Временное правительство Литвы в своем обращении к народу ясно высказалось по этому вопросу: такую роскошь — междоусобную резню — могут себе позволить только стомиллионные народы, а нам дорог каждый человек. Мы хотим всех заблудших вернуть в лоно нации, — конечно, если они не ярые враги, умеют оценить нашу добрую волю и готовы доказать на деле…
— Я готов! Я уже говорил, господин начальник, что готов!.. — вскочил Жакайтис. — Будто я по своей воле служил в милиции да помогал землю делить? Уговорили, подбили… Слепой был!
— Если бы немцы не отрезали дорогу, вряд ли бы ты прозрел, — желчно усмехнулся Адомас. — Хватит об этом. Вижу, что раскаиваешься, хотя кое в чем, может, и врешь, как пес. Горбат, но молод — время выправит. В полиции служить хочешь?
Жакайтис стоял, понурив голову. Небритое лицо странно подергивалось.
— Могу… Все могу, господин начальник… — всхлипнул он. Его ноги подкосились, и медленно, словно его придерживала за шиворот невидимая рука, он упал на колени рядом со стулом.
— Встань, черт подери! — в ярости крикнул Адомас. — Тряпка! Нам мужчины нужны, не бабы.
Жакайтис вскочил.
— Пошел вон! Слышишь! — Адомас положил руку на пистолет. — Найди дежурного и позови сюда.
Жакайтис, ошалело поглядывая по сторонам, бочком выбрался из кабинета.
— Вот видишь, каковы столпы вашей власти, лапочка, — сказал Адомас Пуплесису, который сидел, словно деревянный истукан; только глаза, поблескивающие исподлобья, показывали, что под толстой корой дерева не прекратилась жизнь. — Таких, как Жакайтис, в Литве тысячи. Что ты на это скажешь?
Мертвая кора дрогнула, и на ожившем лице появилась кривая ухмылка. С таким выражением Пуплесис обычно жевал стекла.
— Умнее не скажешь, как есть, господин начальник. Жакайтис недавно на молоденькой женился, сам молодой, медовый месяц у парня, так сказать, — может, и стоит из-за этого шкуру менять, а я за свою старуху такой цены не дам.
Адомас сунул пистолет в кобуру.
— А может, дети этого стоят?
Пуплесис вздрогнул, но продолжал смотреть на Адомаса в упор. Кулаки на коленях мучительно вздрагивали.
— Дети и без меня вырастут, господин Вайнорас. Чем труднее им в жизни придется, тем крепче будут помнить, кому за это обязаны.
— А мы не хотим, чтобы помнили. — Адомас встал. Ему стало весело. — Убирайся-ка подобру-поздорову — рожь косить пора! Какой ты нам теперь враг? Кузнечик! Скачи не скачи, военную машину не остановишь, хоть под колеса ляг. А может, думаешь, большевики еще вернутся?..
Пуплесис повертел головой, — нельзя было понять, соглашается он или нет.
В эту минуту с шумом открылась дверь и в комнату ввалился Жакайтис, а вслед за ним — Бугянис, выставив пистолет.
— Господин начальник, этот тип… я его задержал… Что тут творится, к чертям собачьим, господин начальник?!
— Жакайтис, как мне кажется, желает потрудиться для нас, — спокойно объяснил Адомас и, повернувшись к Пуплесису, добавил: — Тебе придется ежедневно отмечаться в полиции, а потом видно будет. Жакайтис!
Тот подскочил, словно наступив на змею.
— В Каунасе организуют трудовые батальоны. Набирают добровольцев на военные стройки. Удобный случай, чтоб искупить свои грехи перед родиной. Понял?
— Понял, господин начальник… Искуплю…
— Анархия! — возмутился Бугянис. — Вы бросаете горящие спички в пороховую бочку, господин Вайнорас!
«Милда будет довольна», — с иронией подумал Адомас.
I
В исполкоме Марюс сказал:
— Мы организовали курсы ликбеза, товарищ учитель. Ты не сможешь раз в три дня пожертвовать двумя часами?
Гедиминас через силу улыбнулся.
«Было время, когда мы звали друг друга по имени. Теперь между нами стол и девушка, которую мы оба любим».
— Вы теперь начальник, можете приказать…
— Советская власть не приказывает своим друзьям.
Марюс три года ходил к Гедиминасу, когда тот приезжал на каникулы, показывал ему тетради, полные каракулей, и каждую осень сдавал экстерном экзамены за очередной класс.
Что бы ни случилось, он этого забыть не сможет.
— Нужны ли при советской власти три класса гимназии, чтоб занимать пост председателя волисполкома? Сейчас модно не чистить ногти, не носить галстук, не умываться, ходить в мятых штанах и корчить из себя пролетария, обиженного буржуазией.
— В каждой избе свои мухи, черт подери. Настанет час, переведутся. Мы уж постараемся, товарищ учитель, чтоб такое время пришло поскорей. — Взгляд у Марюса жесткий и тугой, как натянутый канат, тяжелые, жилистые кулаки лежат на столе, — вот-вот бросятся в бой и действиями докажут свою правоту.
Позднее Гедиминас увидел такие кулаки в классе. Их было много. Они парами лежали на школьных партах, словно усталые коровы на выгоне, объеденном до черноты. Зачем они сюда пришли, эти пожилые люди с морщинистыми лицами? Эти женщины, которые до той поры рожали и хоронили своих детей, не умея нацарапать своей фамилии? А их обомшелые мужья, которые днем потели за станками в мастерских или таскали мешки на станции? Неужели они думают, что посидят два часика за школьной партой — и хлеб станет сытнее?
В такие годы… как дети… Ведь смешно, товарищ учитель? — сказал какой-то здоровяк, когда Гедиминас взял его ручищу с карандашом и показал, как правильно пишется слово.
Со лба здоровяка катился пот, лицо побагровело от натуги. Усталый и отчаявшийся, смотрел он на разбегающиеся буквы и думал, что каждая из них — тяжелей товарного вагона, сотни которых он разгрузил за свою жизнь. Но отступать было поздно. Словно каторжник камни, он будет подкатывать букву к букве, сцепляя их в тысячепудовые слова, покуда мертвая бумага чудодейственно не заговорит.
Его мучил духовный голод.
Гедиминас посмотрел в жадные, по-детски застенчивые глаза и, охваченный странным беспокойством, ответил:
— Учиться никогда не смешно, друг.
Все головы, сколько их было в классе, оторвались от тетрадей и повернулись к Гедиминасу. В глазах были все та же ненасытная жадность и детская застенчивость.
«До сих пор я не знал людей», — с удивлением подумал Гедиминас.
Дня за три до того он побывал в деревне. У дороги босой крестьянин в холщовой рубахе сеял рожь. Шаг его был легок, взмахи широки, лицо празднично-торжественно. Каждый год, осенью и весной, он сыпал зерно в тоскующую по семенам землю, но все в чужую, а теперь впервые засевал свое поле.
— Это моя земля, товарищ учитель. Вон на пригорке в будущем году избу срублю, а возле нее посажу сад! Вы понимаете, что такое своя земля и своя изба, когда у тебя четверо ребят?
— Ну, конечно, вам теперь не придется батрачить…
— Нет, вы ничего не понимаете. — Крестьянин присел на корточки и обеими ладонями, словно лаская, погладил рыхлые комья пашни. — Землица ты, землица! Бросишь ей одно зерно, а она тебе — десять. Родная мать не бывает щедрее с дитем… — Его губы шептали, словно молитву, а глаза горели священным голодом. Как у тех, что собрались в классе, чтобы разгадать тайну грамоты.
Когда он, зачерпнув в лукошко семян, ушел по пашне, Гедиминас долго не мог оторвать зачарованного взгляда от фигуры в холщовой рубахе, которая удалялась, разбрасывая обеими руками солнечные лучи зерен.
«Этот человек мог бы отрезать ломоть своей земли и есть ее, как хлеб. Он обалдел от счастья. Когда видишь его, впору усомниться, знавал ли ты раньше действительно счастливых людей…»
Марюс сказал как-то, — тогда между ними еще не стояла женщина:
— Нация, нация… Твоя нация, Гедиминас, разделена на погонщиков и волов. Пока не рухнут эта преграды, литовец будет пахать на литовца, а наша Литва будет стучаться с сумой в чужие ворота.
Неужели большевики расшатали эти непреодолимые преграды?
Гляжу, не веря сам себе, —
ужели это та страна,
которую обрел в душе,
мечтая по ночам без сна?
Поздно вечером, вернувшись с курсов, Гедиминас открыл пожелтевшую папку, набитую тетрадями. Где-то копошилась мысль, что так поступать не следует, что это святотатство и он изменяет всему, чем жил и во имя чего жил, но перед глазами стоял крестьянин в холщовой рубахе, бросающий в землю лучистые зерна, пожилые люди за маленькими партами, и Гедиминас не смог устоять перед непонятной силой. Так бывало всякий раз, когда его охватывал душевный подъем, и, не умея удержать его в себе, он доверял свои чувства бумаге.