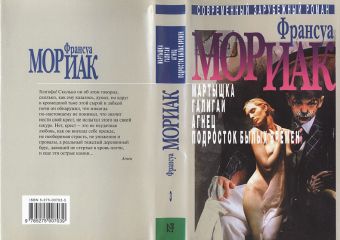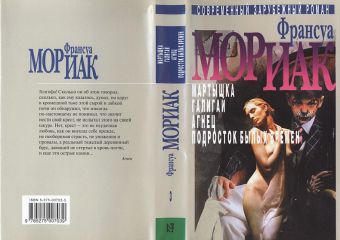— Вон как нагрузились-то, барышня, — обиженно говорил извозчик, отвязывая вожжи, — все сиденье дорогой обдерем. Прибавить бы надо против уговору!
— Лизочек, посуда тоже в ящиках? — Якубов помедлил у ворот.
— Разумеется.
Извозчик залез на козлы:
— Ну, поехали, что ль?
Якубов попробовал отодрать рейки верхнего ящика. Рейки не поддавались. Осторожно вытягивая револьвер, Рысин шагнул к нему:
— Ваше оружие!
Якубов оторопело уставился на него, потом перевел взгляд на револьвер, который Рысин прижимал к подреберью, и тут же овладел собой:
— Это недоразумение. Угодно взглянуть мои документы?
— Ваше оружие, — повторил Рысин.
Якубов оглянулся, увидел подбегавшего Костю, и разом его смуглое лицо сделалось матово-желтым. Пригибаясь, он метнулся к воротам, но Костя успел схватить его за руку. И в эту минуту в конце улицы показался патруль — двое солдат и офицер. Костя вырвал браунинг, прицелился в офицера.
— Зачем? Не надо! — крикнул Рысин.
Но тот уже нажал спуск. Промазал. Офицер что-то прокричал неразборчиво и зигзагами побежал вперед, солдаты сбросили с плеч винтовки. Плоский фонтанчик пыли косо брызнул возле колес.
Рысин подтолкнул Якубова к пролетке:
— Лезьте! Живо!
Патрульные, прижавшись к забору, открыли пальбу, одна из пуль расщепила верхушку штакетины. Извозчик, даже не пытаясь укрыться, оцепенело сидел на козлах; Лиза с воплем кинулась к дому, и сразу распахнулось окно — то самое, под которым ночью Рысин сидел в кустах сирени, отлетела занавеска. Из комнаты хлестнул выстрел, пуля впилась в кожаное сиденье пролетки. Извозчик, опомнившись наконец, заорал, и лошади понесли. Рысин бросился к пролетке, успел заскочить в нее, вырвал у извозчика вожжи, но лошадей остановить не сумел.
Обернулся, чувствуя, что кричит, не слыша собственного крика. Из окна еще дважды громыхнуло. Костя схватился за плечо, а Якубов, не успев добежать до ворот, вдруг изломился, словно его ударили в поясницу, запрокинулся назад, прижимая руки к горлу.
Проводив Костю, Лера вернулась в музей, заперла дверь. Детский стишок вертелся в голове:
Вот идет Петруша, славный трубочист.
Личиком он черен, а душою чист.
Нечего бояться его черноты,
Лучше опасаться большой красоты…
Она поднялась на второй этаж, постояла у окна.
Красота нередко к пагубе ведет,
А его метелка от огня спасет!
Этот стишок у них с мамой был вроде семейного гимна; его еще покойный отец любил распевать, а теперь во всем свете, наверное, одна Лера и помнила шесть нескладных строчек, бог весть почему полюбившихся когда-то ее родителям. Кому нужно помнить такую назидательную чепуху? Тем более сейчас. А вот она его на всю жизнь запомнила, этот стишок, и детям своим велит выучить, если будут дети.
Лера открыла шкафчик, где лежали тома «Пермской летописи», подшивки журналов «Земская неделя» и «Фотограф-любитель», взяла с полки маленькую деревянную трубку с обломанным чубуком, вырезанную в виде фантастической птицы с вислоухой собачьей головой и чешуйчатым, раздвоенным рыбьим хвостом — когда-то ее случайно обнаружил Костя, роясь в музейном хламе. Он считал, что трубка изображает божество древних персов, это Сэнмурв-Паскудж — прообраз трех стихий: земли, неба и воды. Такое же изображение было на одном из блюд коллекции Желоховцева, и Косте хотелось думать, что трубку эту вырезали уже здесь, на Урале, по рисункам на серебряной посуде. Никого она в музее не интересовала и даже не значилась в каталогах, но отдать ее в университетскую коллекцию, о чем просил Костя, Лера отказалась. Заявила, что нет, не отдаст ни в коем случае, хотя вразумительно объяснить причину своего упрямства не могла. Как объяснишь? Просто она сразу для себя решила, что эта трубка и есть та самая вещь, которая будет напоминать о Косте. Сам-то он ничего не догадался подарить — ни колечка, ни брошки грошовой. А ей, как всякой женщине, нужен был какой-то залог.
Лера потрогала остро обломанный чубук, положила трубку на место и подумала про Федорова. Ночью тот спал и не слышал, как хлопнула дверь, когда после ресторана, обнаружив, что Кости у Андрея нет, она прибежала в музей. И хорошо, что не слышал. А то вполне могла бы и выпустить его по дурости.
Она сошла вниз, постучала в дверь чуланчика:
— Алексей Васильевич!
— Немедленно выпустите меня отсюда! — воззвал Федоров. — Сегодня состоятся выборы в городскую думу. Мне совершенно необходимо в них участвовать, я член комиссии!
— Не могу… Честное слово, не могу.
— Вот уж не думал, Валерия Павловна, что вы заодно с этими негодяями. А я-то, старый дурак, бегал, искал. Эк вы меня надули! И не стыдно?
— Честное слово, экспонаты украли.
— Ха, — сказал Федоров, — украли! И ваши приятели еще имеют наглость утверждать, будто все похищенное находится у меня же дома. Это форменное издевательство! Выпустите меня! — снова закричал он и ударил кулаком в дверь. — Я протестую!
— Алексей Васильевич, миленький, не могу! Вы есть хотите?
— Хочу, — смягчился Федоров.
— Пожалуйста, потерпите немножко. Ладно? Я чуть позже принесу.
Он шумно вздохнул:
— По крайней мере скажите, что мне грозит.
— Ровным счетом ничего.
— Голубушка, — жалобно попросил Федоров, — вы хоть Лизу-то известите, что я жив пока. Лизочка ведь уже с ума сходит! Не хотите говорить правду, скажите, будто меня срочно на вскрытие командировали… Вы ведь знаете Лизочку, сходите к ней!
— Вечером схожу, — пообещала Лера.
— Вечером? — опечалился Федоров. — А до вечера мне тут сидеть?
Лера хотела честно сказать, что ему в чуланчике придется еще несколько дней просидеть, до прихода красных. Она уже совсем собралась с духом, чтобы это сказать, как вдруг услышала отдаленный звук выстрела. Потом еще и еще. Стреляли где-то в районе Вознесенской церкви.
Лошади неслись вперед, прямо на патруль. Извозчик, что-то невнятно бормоча, стал хвататься за вожжи, и Рысин толкнул его локтем:
— Прыгай… Убьют!
Тот покорно вывалился на обочину.
Шарахнулся в сторону офицер, передний солдатик медленно повел винтовку; боек клюнул капсюль, но мгновением раньше пролетка подскочила на ухабе, Рысин даже выстрела не услышал. Теряя ногами днище, он завалился на ящики, пуля чиркнула рядом, оставила рваную щербинку на вожжах возле самых его рук. Но вожжи остались целы. Надвинулась, выросла церковь, разваливаясь, будто гармоника, потом ушла вбок; заборы приобрели объем, а дома и деревья стали плоскими, как театральные декорации. Изламываясь, они пролетали мимо с короткими легкими хлопками. Литые резиновые шины скользили в уличной пыли, с грохотом подпрыгивали ящики. Он свернул на Соликамскую, промчался три квартала вниз, к Каме, и выехал на Покровку.
Дома он затащил ящики в ограду, на ходу бросил жене:
— Я скоро, Маша!
Снова вскочил в пролетку и погнал лошадей под угор, в сторону завода Лесснера. Погони не было. Проехав несколько кварталов, остановил лошадей в пустынном проулке у железнодорожной насыпи. Огляделся — никого. В ближайших двух дворах огороды заросли лебедой, окна в домах заколочены. Рысин осмотрел пролетку — не обронил ли чего, и взгляд упал на дырку от пули. Из темной, протрескавшейся кожи сиденья торчал клок ватина. Спрыгнув на землю, он достал складной нож, вспорол сиденье и поковырял лезвием внутри. Вытащил светлую, недеформированную пулю, сунул в карман.
Вернувшись, Рысин заволок ящики в дровяник, взял гвоздодер-бантик и осторожно поддел верхние рейки самого большого ящика. Гвозди отошли с протяжным скрипом, сверху лежала тонкая неровная плита известняка, какими хорошие хозяева выкладывают обыкновенно дорожки в огородах. Отшвырнул ее в сторону — плита разлетелась на куски. Под ней обнаружился всякий мусор — деревянные обрезки, стружка, ветошь. Раскидав все это по дровянику, он вскрыл другой ящик, третий — то же самое. В четвертом вместе с разным хламом лежали ржавый четырехрогий якорек и обломок багетовой рамы.
Чертыхнувшись, он запустил якорьком в стену. Два рога мягко впились в доски, якорек прилип к стене.
Рысин прошагал в комнаты, лег на незастланную постель лицом в подушку. Вошла жена, спросила:
— Чаю хочешь?
Рысин помотал головой.
— Почка болит? — встревожилась жена.
— Нет, — в подушку проговорил Рысин. — Не болит.
Она присела у него в ногах, попробовала стащить сапог. Не смогла и оставила так.
— А я вчера на рынке была. Бог знает, что делается! Неделю назад галоши по сто двадцать рублей торговали. Я и не покупала. Откуда у нас такие деньги? Все говорят, в закупсбыте дешевше. Да только где они там, галоши-то? А вчера прихожу, смотрю — галоши уже по сорок рублей. И соль подешевела. И хлеб… С чего бы?