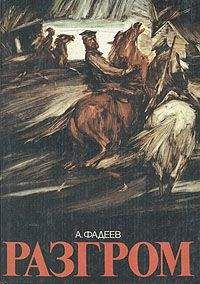— Порядочным?! — ужаснулся Чиж. Голос его утратил обычные сладковатые нотки, и в нем звучало теперь сознание своего превосходства. — Какое заблуждение. Да вы посмотрите, каких он подбирает людей!.. Ну что такое Бакланов? Мальчишка! Много о себе думает, а какой из него помощник командира? Разве нельзя было других найти? Конечно, я сам больной, израненный человек — я ранен семью пулями и оглушен снарядом, — я вовсе не гонюсь за такой хлопотной должностью, но, во всяком случае, я был бы не хуже его — скажу не хвалясь…
— Может быть, он не знал, что вы хорошо понимаете в военном деле?
— Господи, не знал! Да все об этом знают, спросите у любого. Конечно, многие завидуют и наговорят вам по злобе, но это же факт!..
Постепенно Мечик оживился тоже и стал делиться своими настроениями. Весь день они провели вместе. И хотя после нескольких таких встреч Чиж стал просто неприятен Мечику, все же он не мог от него отвязаться. Он даже сам искал его, когда долго не видал. Чиж научил его отвиливать от дневальства, от кухни — все это уже утеряло прелесть новизны, стало нудной обязанностью.
И с этих пор кипучая жизнь отряда пошла мимо Мечика. Он не видел главных пружин отрядного механизма и не чувствовал необходимости всего, что делается. В таком отчуждении потонули все его мечты о новой, смелой жизни, хотя он научился огрызаться, не бояться людей, загорел и опустился в одежде, внешне сравнявшись со всеми.
Морозка, повстречав Мечика, к удивлению своему, не ощутил ни прежней злобы, ни ненависти. Осталось только недоумение, зачем снова попадается на пути этот вредный человек, и подсознательное убеждение, что он, Морозка, должен на него сердиться. Все же встреча так подействовала на него, что захотелось немедленно поделиться с кем-нибудь.
— Иду сейчас проулком, — сказал он Дубову, — только из-за угла выскочил, а прямо на меня — парень шалдыбинский, что привез я, помнишь?
— Ну?..
— Да ничего… «Где, говорит, к штабу тут пройти?..» — «А вон, говорю, второй дом направо…»
— И что же? — допытывался Дубов, не находя во всем этом ничего удивительного и думая, что оно еще будет.
— Ну, встретил — и все!.. Что же еще? — ответил Морозка с непонятным раздражением.
Ему стало вдруг скучно и расхотелось говорить с людьми. Вместо того чтобы идти на вечерку, как собирался, он завалился на сеновал, но уснуть не смог. Неприятные воспоминания навалились на него тяжелой грудой; казалось, Мечик нарочно встал на дороге, стараясь сбить его с какой-то правильной линии.
Весь следующий день он бродил, не находя места, с трудом подавляя желание снова повидать Мечика.
— Ну что мы сидим без дела? — досадливо приставал к взводному. — Сгниешь тут от скуки… О чем там Левинсон думает?..
— О том и думает, как бы это Морозку повеселить. Все штаны продрал, над этим сидючи.
Дубов и не подозревал о сложных Морозкиных переживаниях. А Морозка, не получая поддержки, исходил зловещей тоской и знал, что скоро запьет, если не удастся рассеяться на горячем деле. Первый раз в жизни он сам боролся со своими желаниями, но силы его были слабы. Только случайное обстоятельство уберегло его от падения.
Забравшись в глухое место, Левинсон почти потерял связь с другими отрядами. Отрывочные сведения, которые удавалось иногда собрать, рисовали жестокую картину развала. Тревожный улахинский ветер нес дымные запахи крови.
По вкрадчивым таежным тропам, где много лет уж не ступала человеческая нога, Левинсон связался с железной дорогой. Ему сообщили, что вскоре должен пройти эшелон с оружием и обмундированием. Железнодорожники обещали точно указать день и час. Зная, что рано или поздно отряд все равно откроют, а зимовать в тайге без патронов и теплой одежды невозможно, Левинсон решил сделать первую вылазку. Гончаренко спешно начинил фугасы. Туманной ночью, пробравшись незамеченным сквозь неприятельское пекло, взвод Дубова внезапно появился на линии.
…Товарные вагоны, прицепленные к почтовому поезду, Гончаренко оторвал, не задев пассажирских. В грохоте взрыва, в динамитной гари взметнулись над головой лопнувшие рельсы и, вздрагивая, рухнули под откос. Берданный затвор от фугаса, зацепившись шнурком, повис на телеграфном проводе, заставив впоследствии многих ломать голову над тем, кто и зачем его повесил.
Пока рыскали вокруг кавалерийские разъезды, Дубов с навьюченными до отказа лошадьми выжидал на Свиягинской лесной даче, а ночью увильнул в «щеки» (Щеки — ущелье). Через несколько суток был в Шибиши, не потеряв ни одного человека.
— Ну, Бакланыч, теперь держись… — сказал Левинсон, и в зыбком его взгляде нельзя было прочесть, шутит ли он или всерьез. В тот же день он раздробил хозяйственную часть, раздав по рукам шинели, патроны, шашки, сухари, оставив сколько могут поднять заводные лошади.
Вся Улахинская долина, вплоть до Уссури, была занята неприятелем. К устью Ирохедзы стягивались новые силы, японская разведка шарила по всем направлениям и не раз натыкалась на дозорных Левинсона. В конце августа японцы двинулись кверху. Шли медленно, с большими остановками, от хутора к хутору, ощупывая каждый шаг, разбрасывая по флангам частые охранения. В железном упорстве их движения, несмотря на его медлительность, чувствовалась уверенная в себе, разумная и в то же время слепая сила.
Разведчики Левинсона возвращались с дикими глазами, а сведения их противоречили одно другому.
— Как же так? — холодно переспрашивал Левинсон. — Вчера, говоришь, они были в Соломенной, а сегодня утром в Монакине, — что же они, назад идут?..
— Н-не знаю, — заикался разведчик. — Может, то передовые были в Соломенной…
— А откуда ты знаешь, что в Монакине главные, а не передовые?
— Мужики сказывали…
— Дались тебе мужики!.. Как тебе было приказано? Разведчик тут же сочинял замысловатую историю, почему не удалось проникнуть вглубь. На самом деле, напуганный бабьими россказнями, он не доехал до неприятеля верст десять, просидел в кустах, раскуривая табачок и дожидаясь, когда удобнее будет вернуться. «Ты бы сам сунулся», — думал он про Левинсона, глядя на него затаенно-мигающим мужицким взглядом.
— Придется тебе самому съездить, — сказал Левинсон Бакланову. — Иначе нас тут, как мух, прихлопают. Ничего не поделаешь с этим народом. Возьми кого-нибудь с собой и поезжай чуть свет.
— А кого взять? — спросил Бакланов. Он старался быть серьезным и озабоченным, хотя все внутри билось в тревожной боевой радости: как и Левинсон, он считал нужным прятать истинные свои чувства.
— Возьми кого хочешь… хотя бы новенького, что у Куб-рака, — Мечика, что ли? Кстати проверишь, что он за парень. А то говорят про него нехорошее, может, и зря…
Разведка подвернулась Мечику как нельзя кстати. За короткое пребывание в отряде он скопил такое количество невыполненных дел, несдержанных обещаний и неосуществленных хотений, что каждое из них в отдельности, даже выполненное, потеряло бы уже всякий смысл и значение. Но вместе они давили все тяжелей, и глуше, и больнее, не давая вырваться из своего до нелепости узкого круга. Теперь ему казалось, что он сможет разорвать этот бессмысленный круг одним смелым движением.
Они выехали еще до рассвета. Чуть розовели на отроге таежные маковки, в деревне под горой кричали вторые петухи. Было холодно, темно и немножко жутко. Необычность обстановки, предвкушение опасности, надежда на удачу порождали в обоих то приподнято-боевое настроение, при котором все остальное не важно. В теле — легкая зыбь крови, пружинят мускулы, а воздух кажется холодным и жгучим, даже хрустит.
— Эк у тебя кобыла опаршивела, — говорит Бакланов. — Не ухаживаешь, что ли? Плохо… Это Кубрак, дурило, не показал, видно, что с ней делать? — Бакланов никогда бы не подумал, что у человека, умеющего обращаться с лошадью, хватит совести довести ее до такого состояния. — Не показал, да?
— Да как сказать… — смутился Мечик. — Он вообще мало помогает. Не знаешь, к кому обратиться.
Стыдясь своей лжи, он ерзал на седле и не смотрел на Бакланова.
— А ты у каждого спрашивай. У нас там много понимающих. Ребята есть боевые…
Вопреки мнению Чижа, которое Мечик тоже почти усвоил, Бакланов начинал ему нравиться. Он был такой плотный и круглый, сидел на седле как пришитый. Глаза у него были коричневые и сметливые, он все схватывал на лету, тут же отделяя достойное внимание от пустяков, затем следовали практические выводы.
— Э-э, парень, а я все смотрю, чего у тебя седло ездит! Заднюю подпругу ты до отказа натянул, а передняя висит. Наоборот надо. Давай перетянем.
Мечик не успел еще сообразить, в чем дело, а уж Бакланов, спешившись, возился у седла.
— Ну-у… да у тебя и потник завернулся… Слезай, слезай — лошадь загубишь. Насквозь переседлаем.