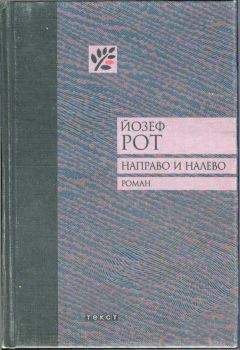Сейчас выбегут сюда хлопцы. Они станут допытываться: «Ну как, здорово попало?» А я что скажу? Что меня выгнали? Ну нет. И так тошно, а тут еще жалеть станут и, того и гляди, тетке разболтают. Уж лучше дать стрекача. И, зажав под мышкой связку книг, я побежал на Заречье.
Дома я долго не мог найти себе места.
Что же все-таки сказать Марье Афанасьевне?
Прошлой зимой, перед самым рождеством, мы с Куницей не пошли в училище, а забрались в лес за елками. Отец узнал про это и потом три дня бранил меня, даже, помню, Сашку Бобыря прогнал, когда тот пришел звать меня на коньках кататься.
Нет уж, никому не буду говорить, что меня выгнали из гимназии. И Марье Афанасьевне. И хлопцам. Даже Кунице не скажу, обидно все-таки. А если спросят, почему не занимаешься? Ну, тогда выдумаю что-нибудь. Скажу, у меня стригущий лишай и доктор Бык не велел приходить в класс, чтобы не заразил других учеников: и бояться будут, и поверят.
Ведь у Петьки Маремухи был стригущий лишай, и он, счастливец, сидел тогда две недели дома. Вот и расцарапаю я себе на животе стеклом ранку, скажу, что это лишай, буду мазать ее белой цинковой мазью и сидеть дома. А там и каникулы начнутся.
Решено – у меня лишай!
Но вечером в этот день я никак не мог успокоиться. Лишай лишаем, тетку обмануть будет нетрудно, а вот стоило подумать, что я уже больше не ученик, – и сразу начинало щемить сердце.
Больше всего было обидно, что меня выгнали из-за этого паршивца Котьки. Ох, как обидно! Жаль, что я его мало поколотил…
Дома никого не было. Покормив меня обедом, тетка ушла на огород пропалывать грядки.
А не пойти ли мне к Юзику? Но уже, должно быть, вернулся домой и отец Юзика. А мне не хотелось с ним встречаться. Уж очень он строгий, никогда не засмеется и не отвечает даже, когда говоришь ему: «Здравствуйте, пане Стародомский».
«Нет, к Юзику ходить не стоит, – решил я. – Так просто пойду погуляю один».
Скоро тихие сумерки спустятся на крутые улицы нашего города. Уже солнце, остывая, падает за Калиновский лес. Медленно и важно плетутся по узкому переулку к речке, на купанье, шоколадно-черные египетские гуси нашей соседки Лебединцевой. Гусей никто не гонит, – они сами, выйдя из подворотни, покачиваясь и выгнув шеи, бредут вниз.
Подымаясь по Турецкой улице, я услышал, как вверху на гимназическом дворе дробно застучал барабан. Подойдя ближе, я увидел, что возле глазка в каменной ограде столпились маленькие ребята. Приподнявшись на цыпочки, они заглядывали в глубь двора.
– Смотри, смотри, как маршировуют! – восхищенно закричал, путая слово, кто-то из них.
И вдруг среди этой детворы я заметил стриженый затылок Куницы. Вот так здорово! А я думал, Юзик сидит дома.
Я растолкал локтями сгрудившихся около забора ребят и, пробравшись к Юзику, хлопнул его по плечу.
Он вздрогнул и быстро обернулся, рассерженный, готовый к драке. Но, увидев меня, заметно смутился и промямлил что-то непонятное себе под нос.
– А ты зачем пришел сюда? Интересно тебе, что ли? – спросил я, кивая в сторону двора.
– А, ерунда такая, – с напускным безразличием ответил Куница, – ходят, «слава» кричат, а офицеры смотрят на них, как на обезьян в зверинце!
Совсем близко, за стеной, застучал барабан. Через глазок я увидел, как по гимназическому двору ровными рядами зашагали бойскауты. Они в новой форме: на них коротенькие, цвета хаки, штанишки до коленей и светло-зеленые рубахи с отложными воротничками. К левому плечу у каждого пришит пучок разноцветных ленточек, а на рукаве, пониже локтя, – желто-голубые нашивки. Бойскауты маршируют рядами по три человека и, подойдя к забору, сворачивают в сторону.
Поодаль, важничая, в новых желтеньких ботинках шагает «утопленник» – Котька Григоренко. На рукаве у него, повыше желто-голубой нашивки, вьется червяком малиновый шнур. Это значит, что Котька не простой скаут, а начальник. Мне ненавистны и натянутая походка этого барчука, и его самодовольный вид. Как только его слушаются Володька Марценюк и Сашка Бобырь? Ведь раньше они никогда не дружили с Котькой, дразнили его, а сейчас даже смотреть противно, как они из кожи лезут вон перед этим докторским сынком…
Подлизы несчастные – с ними даже здороваться не стоит…
Мальчишки загалдели у меня за спиной. Они совсем прижали нас с Куницей к забору, силясь разглядеть, что делается во дворе.
– Пойдем-ка, Юзик, лучше купаться! Я уже нагляделся. Хватит здесь стоять, – предложил я Кунице.
Куница согласился.
По знакомой извилистой тропинке, мимо улицы Понятовского, мы направились к речке.
– Ну, что тебе директор сказал сегодня? Небось попало здорово? – спросил Куница.
– А, пустяки. Сначала ругался, а потом, когда я ему рассказал, что Котька мне подножку подставил, замолчал и отпустил домой.
– Только и всего… А Петька Маремуха брехал, что тебя выгнали из гимназии. Мы ждали тебя, ждали, а ты как пошел, так и пропал. Я уже думал, не посадил ли тебя бородатый за Котьку в карцер.
– Ну, вот еще выдумали. Не выгнал, а грозился выгнать. А Маремуху я поколочу, если он брехать про меня будет…
Внизу уже заблестела речка.
– Купаться со скалы будем?
– Давай со скалы, – согласился Юзик.
Мы повернули вниз. За рекой показалась знакомая Старая крепость.
Весь ее двор засажен фруктовыми деревьями. Возле Папской башни растут низкие ветвистые яблони-скороспелки.
Сорвешь зрелое яблоко еще задолго до осени, потрясешь над ухом – слышно даже, как стучат внутри его черные твердые зернышки.
Скороспелки, когда созреют, делаются мягкими, нежными, зубы – только тронь такую кожуру – сами вопьются в нежно-розовую рассыпчатую мякоть яблока.
В крепости есть несколько шелковиц. Ягоды, которые созревают на этих деревьях, мы называем «морвой». Они черные и похожи на шишечки ольхи. Когда черная морва созреет, мы, забравшись в Папскую башню, швыряем оттуда сверху на деревья тяжелые камни. С шумом пробивая листву, камни летят вниз, задевают твердые ветви, ветви трясутся, а ягоды осыпаются.
Потом в густой траве, под сбитыми листьями, мы ищем мягкие, приторные, налитые черным соком ягоды. Мы едим их тут же, ползая на коленках под деревом, и долго после этого рты у нас синие, словно мы пили чернила.
Вот уже несколько дней, как на лотках городского базара появились первые черешни. Желтые, совсем прозрачные, желто-розовые, похожие на райские яблочки, и черные, блестящие, красящие губы ягоды доверху наполняют скрипучие лукошки торговок. Торговки звенят тарелками весов, переругиваются, отбивая друг у друга покупателей, и отвешивают черешни в бумажные кульки.
Как мы завидуем тем, кто свободно, не торгуясь, покупает целый фунт и, сплевывая на тротуар скользкие косточки, не торопясь проходит мимо нас!
Так, размышляя о черешнях, я спустился вслед за Юзиком к реке. Теперь крепость высилась над нами справа – высокая, мрачная. Я видел зыбкую ее тень, падающую на воду, и вспомнил о высоких толстостволых черешнях, которые росли во дворе крепости, за Папской башней. Листва у них прозрачная, редкая, а ягоды удивительно сладкие.
«Раз торговки продают черешню на базаре, – подумал я, раздеваясь, – значит, они уже поспели и в крепости».
Я сказал об этом Кунице.
– Ну, так что ж? Давай полезем завтра!
– А когда?
– После обеда.
– Нет, вечером нельзя, – сказал я, – там же снова будут стрелять петлюровцы.
За пороховыми погребами крепости петлюровцы устроили гарнизонное стрельбище. Ежедневно после обеда они отправляются туда на стрельбу, и до сумерек вся крепость трещит от пулеметных выстрелов. Пули с визгом летят как раз в ту стену, по которой надо взбираться до башни.
– Ну, а когда же? – хлопая себя по бедрам, спросил Куница. Он уже разделся и стоял передо мной голый, худощавый.
– Давай утречком, перед школой. Возьмем с собой тетради, чтобы домой за ними не бегать, я зайду за тобой, только ты гляди не проспи, – сказал я, совсем забыв, что мне завтра в гимназию не надо идти.
– Я-то не просплю, – ответил Куница, – но ведь утром сторож шатается по крепости. Как мы полезем на черешню?
– Да. Это верно.
Утром сторож обходит всю крепость, а вот попозже, как раз когда в гимназии начинаются уроки, сидит на скамейке у ворот. Тогда хоть ломай деревья – не услышит.
Сторож не любит, если ребята появляются в крепостном саду. Он заботливо оберегает каждое дерево, весной обмазывает известкой, окапывает вокруг деревьев землю и удобряет ее навозом. Когда фрукты созревают, он собирает их себе. Влезает на дерево по лестнице – даром что хромоногий – и обрывает ягоды, яблоки и даже маленькие кругленькие груши-дички.
– А, есть чего бояться! Ну, увидит, закричит. Подумаешь! Что мы, не сумеем удрать? Ведь не полезет же он за нами по крепостной стене, старый черт! Давай пошли утром, – решил я.
– Пошли! – сказал Куница. – Язда!
Мы оставляем на берегу одежду и пробираемся вверх, на скалу. Какой интерес купаться у берега, на мели, где купаются зареченские женщины? Не купанье, а стыд один! То ли дело вскарабкаться на скалу и оттуда с вытянутыми вперед руками броситься вниз головой в быструю воду. Теплые, нагретые за день скалы колют нам ноги, мелкие камешки осыпаются вниз и шуршат по кустам бледно-зеленой полыни.