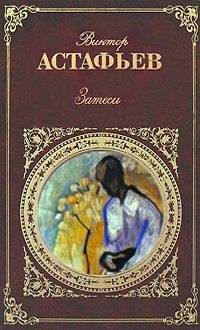За вагоном бежала несчастная персиянка, руки вослед тянула, до самой границы бежала, падать начала, уж у шлагбаума, за который ее не пустили пограничники, замертво устелилась и все руки тянет, все зовет: «Ванья! Ванья!»
Умолк Иван, к окошку отвернулся.
Народ сказал «да-а», я налил в стакан лекарствия и подал Ивану — подзажившую рану усмирить иль разбередить — и только повторял следом за компаньонами «да-а», еще спросил сокровенное: жена-то хоть знает, что с Иваном приключилось на чужбине? Иван молвил, что он, как человек чести, своей давней соученице и невесте все начисто выложил. Она, конечно, поплакала, поревновала его к прошлому, да еще к такому яркому прошлому, но смирилась, теперь уж что об этом говорить, двоих детей вырастили, сад совместными руками создали. И какой сад!
Но иногда Иван во сне иль наяву все еще слышит голос издалека: «Ванья! Ванья!» — и просыпается в слезах.
Жена сразу насчет сердца спрашивает, капель капает трясущейся рукой — сдает сердце-то у богатыря Ивана, боится жена за него, за детей боится, когда загуляет Иван, боится должности его секретарской — завистников много, боится, когда Иван читает стихи по-английски: ей все, что не по-русски, кажется антисоветским, боится, что вот сюда, на съезд приехав, лишнее бы чего не ляпнул, не то б съел, не туда б сел, с начальством не поругался бы, стукачей бы в комнату не напускал — они, проклятые, кругом вьются, что комары, — а еще говорят, в Москве все телефоны прослушиваются. Но все-таки главное, чтоб сердце не поехало, не распсиховался бы обожаемый Ваня, где не надо выражаться бы не начал, в неположенном месте безмолвствовал бы и не горячился. И домой хоть в каком разобранном виде вернулся бы супруг богоданный, дорогой, она уж тут его отходит, ублажит.
Ах ты, Господи Боже мой, да и моя жена, и жены все наши писательские того же самого боятся.
Я зову Ивана немного поспать перед съездом; светать начинает — тяну вполголоса, но выразительно: «Пусть солдаты немного поспят» — и собираюсь увести к себе: мол, устроимся как-нибудь на одной койке иль на диван его уложу, если диван не занят. Иван философски возражает: спать, мол, нам предстоит тысячу еще лет, но вот наговориться, рассвет на Москве-реке встретить, может, и не доведется.
У Ивана в номере все занято — на кровати, вольно раскинув ноги, в обнимку спят московский строгий критик и кемеровский прозаик, большой затейник и говорун. На диванчике в полусидячем положении устроились дети братских народов, один не то мариец, не то мордвин всю ночь выкрикивал, что русские погубили его народ, язык и древнейшую культуру.
Этого язычника собирались побить. Хозяин не дал.
В середке, опустив помочи, сдержанно похрапывал пузатый мужик, недавно исключенный из партии за многоженство, хотя женился он лишь второй раз, да прежняя жена его такой хай подняла, что мужик едва живой остался, слава Богу, хоть в Союзе писателей удержался. Странно: узнав недавно, что я живу с одной женой больше сорока лет, румяный, веселый секретарь Союза писателей, из военных выбившийся в мастера слова, грозился начать кампанию по исключению таких, как я, динозавров из Союза…
Третий гость, неловко свесивший клиновидную, облезлую от детской золотухи головенку через перильца дивана, вятский по происхождению, славен был тем, что ловко косил под национального поэта редкостного, никому не известного народа, с языком, тоже мало кому известным, и до того он довел свое открытие, что его избрали секретарем местной писательской организации, а в монографиях, учебниках и энциклопедиях называли родоначальником национальной литературы.
Как и когда эта публика оказалась в номере Ивана, сказать было невозможно, состав пирующих у хлебосольного хозяина за ночь сменялся трижды, если не четырежды.
Ленинградский поэт Глеб являлся раза три; поспав поперек кровати в ногах двух гостей, вдруг вскочил, схватился за голову: «У нее, у биксы ж, запасной ключ есть! И горничной позвонить может, та и откроет. Она ж там… А я тут… У-у—бью, уубью!»
И убежал, и, слава Богу, больше не являлся. Иван прибрался в номере, объедки в корзину сгреб, пол подмел, помыл посуду, на ходу натюрморт на стене поправил и все говорил, говорил.
Не с кем мужику общаться, всех это провинциалов беда, если они имеют хоть какое-то стремление к самосовершенству и не совсем одичали.
Всходило солнце, мы придвинули стулья к окну и во все глаза смотрели на чудо зарождающегося дня. И где оно зарождалось-то? Над шпилями башен, над луковицами позолоченных храмов, над звездами и крестами, над огромным русским городом, и в душе Ивана, как и в моей, верил я, звучала, звучала бессмертная, родная сердцу мелодия Мусоргского. Иван, одетый в голубую полосатую пижаму, зябко обхватив плечи, весь от восхищения и счастья трепетал и с дрожью в голосе повторял и повторял:
— Хорошо-то как, Господи! Хорошо-то как!..
Озеро Кетское находится в двадцати верстах от Игарки. Помню, как, еще в детстве, возле центрального универмага, опустив головы, стояли олени с закуржавелыми мордами, запряженные в нарты, с гладко обструганными хореями, брошенными на какие-то шкуры и манатки. Когда узкоглазых парней или широколицых женщин спрашивали, откуда они, а те, опустив почему-то глаза, тоненько и застенчиво отвечали: «С Хетского озера, бойе, с Хетского озера», — нам казалось Кетское озеро такой запредельной далью, будто с того света явились люди в сокуях с пришитыми к ним меховыми рукавицами. И как только живьем добрались?!
И вот много, много лет спустя на вертолете летим мы компанией на Кетское это озеро. Не успели обсидеться, железное или пластиковое место обогреть, услышать информацию о том, что давно на этом озере не стоят кето и нганасаны куда-то делись, рыбацкая залетная бригада работает здесь второе лето, до этого был запрет на десять годов.
— Сон тут, кетский сон, — прокричал начальник рыбкоопа.
Вертолет наш тем временем сделал круг над Игаркой, когда-то молодым, бойким городом, который напоминал мне сейчас селение, подвергшееся многим свирепым бомбардировкам. Винтокрылая машина скользнула тенью по песчаному острову в исходе Губенской протоки над желтыми опечками, шляпками грибов выступившими из воды, над лепехами рыжих плешин в болотном прибрежье и начала правиться в сторону от Енисея. Сразу во всей красе увядания расстелилась понизу осенняя смиренная тундра, всегда мне напоминающая молодую солдатскую вдову, только-только вкусившую ласкового любовного тепла, радости цветения, порой, даже и не отплодоносив, вынужденную увядать, прощаться с добрым теплом и ласковым летом.
Еще и румянец цветет на взгорках меж стариц и проток, перехваченных зеленеющим поясом обережья, сплошь заросшие озерины, убаюканные толщей плотно сплетающейся водяной травы, не оголились до мертво синеющего дна, еще и березки, и осины не оголились до боязливой наготы, не пригнули стыдливо колен, не упрятали в снегах свой в вечность уходящий юношеский возраст, еще и любовно, оплеснутые их живительной водой, багряно горят голубичником холмики, сплошь похожие на молодые женские груди, в середине ярко горящие сосцами, налитые рубиновым соком рябин, еще топорщится по всем болотинам яростный багульник, меж ним там и сям осклизло стекает на белый мох запоздалая морошка и только-только с одного боку закраснелая брусника и клюква, но лету конец.
Конец, конец — напоминают низко проплывающие, пока еще разрозненные облака; конец, конец — извещают птицы, ворохами взмывающие с кормных озер, и кто-то, увидев лебедей и гусей, крикнул об этом; конец, конец нашептывает застрявший в углах и заостровках большого озера туман, так и не успевший пасть до полудни, лишь легкой кисеей или зябким бусом приникший к берегам.
А озеро-то, большое, разветвленное, и есть Кетское. Мы проходим низко над зарослями кустов и осокой осененным берегом, устремляемся к другому берегу, серыми песками обрамленному, плюхаемся на обмысок, как бы золой осыпанный от давних еще, кетских, нганасанских, отгоревших очагов.
Нас встречают дружелюбно лающие собаки, щенки, откуда-то, из каких-то недр выкатившиеся, восторженно визжа, прыгают на нас, от радости мочат сапоги.
Из старого, почерневшего до угольной теми строения выходят два заспанных мужика, жмут наши руки. Строение это, скорее берлога, осталось тут от когда-то живших северных инородцев. Здесь издавна заведено со всеми гостями непременно обмениваться рукопожатиями.
Хозяева спрашивают, варить ли уху иль гости обойдутся солениной? И скоро на столе, вкопанном в берег, нарезают нам соленого чира, гости, естественно, достают бутылку. От дальнего, в туман вдавившегося берега летит к нам лодка, и кажется, взбирается она на водяной бугор, стеля на стороны два белых крыла.
Бригадир был на ставных сетях, не успел их все вытрясти, но и то, что он привез, внушало: на подтоварнике лодки горою и вразброс лежали дородные белые чиры, основная ценность Кетского озера, ползали по лодке, били хвостами огромные щуки со сплошь канавами провалившимися животами.