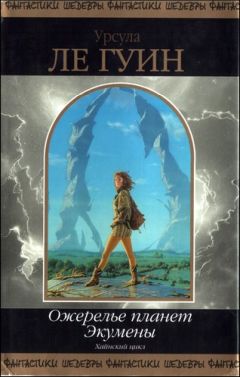– И посылает меня начсандив, – неторопливо продолжал Григорий Григорьевич, – выяснить, каковы там условия. Ну-с, поехал и вижу: лагерь прекрасный. Местность пересеченная, полигон такой, что только во сне может присниться. Но что-то не понравилось мне в этой местности: болот много. И стоит оглушительный комариный звон. А кто не знает, какая болезнь прилетает на комариных крыльях?
Павлик играл, и в том, как он, слушая, поднимал руку и долго держал ее над шахматной фигурой, было что-то от Андрея, но не взрослого, а лопахинского, когда он еще ходил в серой гимназической курточке и не смотрел, а всматривался своими серьезными серыми глазами.
Давно пора было идти в свою комнату и приниматься за план подготовки института к зиме – в прошлом году холода застали нас врасплох, – но я все не шла, а смотрела на Павлика, серьезного, бледного, погруженного в обдумывание очередного хода. Как он переменился, как вырос! Он стал высокий, с худыми прямыми плечами, а светлые доверчивые глаза глядели рассеянно-пристально, как у близоруких, когда они снимают очки. Но у него – я проверила – было нормальное зрение.
– И вот взялись мы за малярию, – продолжал Рамазанов. – Старые землянки засыпали – это прежде всего, нефтевальщиков двинули вперед, палатки при распланировании подняли в здоровые места, подальше от «стариц» – так называются тихие заводи, остающиеся после половодья. Людей хинизировали, но как! Каждое утро выстраивались полки, гремели оркестры и каждый красноармеец получал по стаканчику спиртного раствора хины. Та же водка, а какой русский человек откажется от стопки водки перед завтраком? Это вам не таблетка какая-нибудь, тем более горькая, которую и выбросить недолго. Вот тут дело, между прочим, пошло.
– Григорий Григорьевич, а в Сталинграде, когда вы с папой работали, была малярия? – спросил Павлик.
– Нет.
– Григорий Григорьевич, а что он сейчас делает в Сталинграде?
– Фью, что делает! Там, брат, хватает работы.
– А почему же он не может приехать хоть на несколько дней?
– Ну, как же он приедет, голубчик, – мягко сказал Григорий Григорьевич, – если без него там сразу все вверх йогами пойдет? Тебе шах, между прочим.
– Я вижу.
«Догадывается. Смутно чувствует, что от него что-то скрывают, – продолжала я думать. – Почти не спрашивает меня об отце – как будто понимает, что мне особенно трудно сказать ему правду».
Позвонил телефон, я сняла трубку и не сразу узнала Коломнина: у него был непривычно бодрый и даже легкомысленный голос.
– Дела на ять, – весело сказал он. – И, кроме того, не все же заниматься делами!
– Иван Петрович, что случилось? – Признаться, мне пришло в голову, что наш вечно хмурый, сумрачный Коломнин хватил лишнего. Это случалось с ним последнее время.
– Со мной? Решительно ничего, дорогая Татьяна Петровна. Вы лучше спросите, что с так называемым Скрыпаченко?
– А что с Скрыпаченко?
– То самое.
– Арестован?!
– Нет еще, к сожалению, но вроде. Исключен из партии – это во-первых. Уже не директор Института профилактики – это во-вторых.
– Быть не может!
Григорий Григорьевич вскочил, подбежал ко мне, и, прикрыв трубку ладонью, я торопливо сообщила ему необычайную новость.
– Это верно?
– Как пуля. Я хочу сказать, он вылетел, как пуля. Вам это нравится?
– Очень.
– Вот видите, есть, оказывается, правда на земле. И даже, может быть, выше. Не сердитесь на меня, это я на радостях хлопнул. Я, между прочим, вас люблю, честное слово.
Это было невероятно – услышать от Коломнина подобное признание. Я тоже сказала, что очень люблю и уважаю его. И мы простились, пожелав друг другу доброй ночи.
– Лю-бо-пыт-но, – значительно подняв брови, сказал по слогам Рамазанов. Он ничего не знал о письме, которое мы с Рубакиным послали Генеральному Прокурору, но он, разумеется, прекрасно знал о непреодолимой склонности Скрыпаченко к «анонимной литературе» и, вероятно, не раз подумывал о том, что эта склонность сыграла заметную роль в аресте Андрея.
– Да, любопытно.
Отец вопросительно посмотрел на меня, должно быть, надеясь на пространный объяснительный комментарий, но я только прибавила:
– И очень.
– Григорий Григорьевич, кто это Скрыпаченко? – негромко спросил Павлик, когда Рамазанов вернулся к шахматам и вечер пошел своим чередом.
– Это, брат, очень плохой человек.
– А плохой человек ведь не должен быть членом партии, верно?
– Еще бы. Твой ход.
"Ох, какой сегодня, должно быть, переполох среди разбойников, какое смятение! Крупенский уже, без сомнения, бросился к шефу, а шеф не в форме, шеф болен. Одно огорчение за другим. Жена есть жена, и все-таки неприятно, когда жена, какова бы она ни была, бросается в пролет лестницы и разбивается насмерть. Теперь Скрыпаченко. Что значит это крушение? В чем он промахнулся, с кем не поладил? А впрочем, шеф не особенно удивлен, что этот сомнительный и всегда производивший какое-то неприятное впечатление субъект исключен из партии и снят с поста директора института. Скрыпаченкам не место в науке. И Крупенский, нервно сощурившись, зажигая папиросу от папиросы, смотрит на шефа: «Что ты сделаешь, если надо мной разразится гроза? Тоже продашь? Попробуй! Обойдется дороже».
«Да, это внушает надежду – то, что мне сообщил Коломнин. Лиха беда начало, как говорится. Взялись за Скрыпаченко, доберутся и до других. Ох, поскорей бы! А что, если его исключили из партии в связи с делом Андрея? Здесь нет ничего невозможного. Прокурор мог переслать наше письмо в ЦК, и не то что мог, а был обязан, потому что мы опирались на проверенные, неопровержимые факты».
Совершенно забыв о плане подготовки института к зиме, я принялась шагать из угла в угол, крепко сжимая виски. «Но почему, собственно говоря, я думаю, что это так? Разве мало было за Скрыпаченко и других преступлений?»
Нужно было ложиться, Павлик учился в первой смене, и ему нравилось – я это знала, – когда не дед, а я провожала его.
Я умылась, надела халатик и пошла к нему – взглянуть и поцеловать, если он еще не уснул. В комнате было не очень темно. Дед с внуком спали при открытой форточке, и на ночь приходилось поднимать бумажную штору. Мне показалось, что у Павлика чуть-чуть дрогнули веки, когда я наклонилась над ним – не спит? Но он ровно дышал, и я подумала, что ошиблась.
Вот и ночь! Я лежала с закрытыми глазами и уговаривала себя не принимать снотворного: «Ну, еще хоть час. Лучше помучиться, чем проснуться с туманной, тупой головой».
И я помучилась, а потом, должно быть, все же уснула, потому что мне почудился легкий звон – такой легкий и нежный, как это бывает только во сне. Он был нисколько не похож на звонок у парадной, и мне стало смешно, потому что это был не звонок у парадной, а родник, бьющийся в зеленой ложбине. Но он повторился, и как ни жаль было расставаться со сном, а приходилось, потому что отец проснулся и стоял в дверях моей комнаты, испуганный, в большом, запахнутом вдвое халате Андрея.
– Открыть?
– Подожди, я сама.
Руки немного дрожали, когда я одевалась. Три часа ночи! Что за поздний визит? Отец хотел зажечь свет в передней, я остановила его и, прислушиваясь, постояла у двери. Тишина. Нет, шепот. Кто-то негромко разговаривал на площадке, и мне, быть может, удалось бы расслышать – дверь была тонкая, – если бы сердце не билось так непростительно громко. Тишина. Потом снова звонок. Голоса.
Женский. Никого.
Мужской. Ох, не пугай!
Женский. Вот видишь, нужно было дать телеграмму.
Мужской. Если спросят, ответишь ты. Хорошо?
Митя? Или все это снится мне – взволнованные голоса на площадке и то, что я стою босиком, прислушиваясь и стараясь унять стучавшее, как колокол, сердце.
– Кто там?
– Ох, слава богу! Таня, это мы, мы!
– Митя?
– Да, да, это я, это мы. Откройте же. Мы напугали вас? Я говорил Лизе, что нужно было подождать до утра.
Они вошли на цыпочках, встревоженные, загорелые, большие – я забыла, какие они большие – и, едва войдя, стали, перебивая друг друга, расспрашивать об Андрее.
– Неужели это правда? Нам в самолете сказал один врач. Когда? Почему вы не написали нам? Лиза приехала бы, она давно освободилась, в июне!
– Все расскажу. Ох, как хорошо, что вы приехали! Как хорошо, если б вы только знали!
Я обнимала их, милых, загорелых, обветренных, точно прилетевших на крыльях, чтобы помочь мне, и теперь тревожно хлопотавших вокруг меня, потому что я все-таки не удержалась и немного всплакнула.
– Ничего, будем надеяться, что все обойдется. Я надеюсь, и очень. Что же вы стоите, раздевайтесь, идите сюда, скорее, скорее!
В столовой стояли открытые чемоданы; на диване, на стульях – повсюду было что-то набросано, и уже невозможно было вообразить, что только что была ночь и все в доме спали. Правда, ночь еще продолжалась, и нужно было прежде всего устроить гостей, тем более что Елизавета Сергеевна проговорилась, что ей было нехорошо в самолете. Но это была уже совсем другая ночь и другой дом – дом с Митей и Елизаветой Сергеевной. Я выпроводила Агашу на кухню, уложила отца, и мы, наконец, остались втроем – я и милые нежданные гости, на которых я не могла наглядеться,