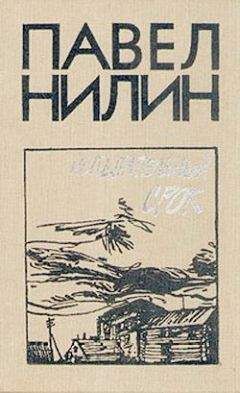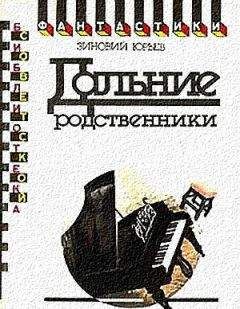— Ну, это тоже хорошо, очень хорошо, — продолжала радоваться Даша. — Все-таки в руках у тебя специальность. У нас и в деревне люди добиваются специальности. А как же! Вот Чичагов тоже из Москвы приехал к нам в МТС. Ты знаешь, как его уважают. Механик...
— Да никакой я. не механик, — засмеялась Нонна Павловна. — Просто мне так удобно. Зарплата, правда, небольшая. Да я за зарплатой и не гонюсь...
— И не надо гнаться, — одобрила Даша. — Не в деньгах счастье. Это и раньше говорили...
— Чего раньше говорили, этого я не помню, — сказала Нонна Павловна. — А мне на моей работе в том смысле хорошо, что я имею отдельную комнату, все удобства. И за свой выходной я могу столько заработать, что другой механик и за два месяца не заработает.
— Вот как? — удивилась Даша.
— Вот так, — усмехнулась Нонна Павловна. — Я за свой выходной все московские магазины обойду, а некоторые даже на такси объеду. Для скорости. Где какие товары продают, которых не хватает, я куплю. А потом — пожалуйста, кому угодно могу уступить, но цена уже будет другая...
— И не боишься? — шепотом спросила Даша. — Ведь это же получается как бы... вред. Государству вред и всем прочим..
— «Вред»! — передразнила ее Нонна Павловна. — Ты бы досмотрела, как меня приветствуют, когда я по домам хожу! А государство от меня не обеднеет. У нас не бедное государство...
— Вот в этом все и дело, — как бы согласилась Даша. — Государство, это правильно, не бедное. И не вечно же так будет, что каких-то товаров не хватает. Ну, а как все наладится, ты что же тогда?
— Ты за меня не беспокойся, — насупилась Нонна Павловна, — я себе найду... — И, вдруг осеклась, опять увидев Филимона.
Он вернулся, должно быть, за новыми пластинками и стоял посреди комнаты. И Даша увидела его. Даша как будто даже испугалась, увидев его.
— Ты чего, Филимоша? — спросила она. — Ты чего?
— Ничего, — ответил он каким-то странным, глухим голосом. — Просто так...
— Завел бы хоть танцы, — уже совсем растерянно попросила Даша.
— Заведу, — пообещал он и медленно пошел к гостям.
А Нонна Павловна как будто очнулась от тяжкого сна.
И с чего это она вдруг так расчувствовалась, разболталась, словно вывернулась наизнанку? Может, это хмель ее так закружил? Или просто всякому человеку хоть раз в жизни хочется с кем-нибудь поговорить откровенно о себе, о своих делах, какие бы они ни были? И это ведь ее родная сестра Даша. Бывало, они в детстве и еще в ранней юности спали рядышком, обнявшись, на сеновале и откровенно-откровенно поверяли одна другой свои девичьи тайны. Как недавно и как давно все это было...
Нонна Павловна, будто девчонка, спрыгнула с подоконника, но пол задрожал под ее увесистым телом. Оно не кажется слишком увесистым, когда она движется, чуть покачиваясь, на высоких каблуках. Оно все еще гибкое, стройное, сильное. И, чувствуя покоряющую силу своего тела, она уверенно оправляет платье, чуть взрыхляет волосы и идет в ту комнату, где шумят гости и патефон сладостно поет о любви.
Ничего особенного не случилось. Чичагов, захмелевший, но не раскисший, а, напротив, приятно возбужденный, протягивает к ней руки. Не Василису Лушникову, бывшую Васку Красильникову, а именно ее, Нонну Павловну, бывшую Настю Самокурову, он приглашает танцевать. И она, улыбаясь заманчиво и как бы утомленно, кладет свою белую, полную руку на его могучее плечо. А инвалид Бурь-ков смотрит на нее посоловевшими глазами и говорит:
— Кабы не мешала мне моя казенная нога, я бы сам с вами прошелся. Уж больно хороши вы во всех статьях...
После танцев, когда гости разошлись по домам, Нонне Павловне еще долго не хотелось спать.
Она разделась, но легла не сразу, сидела на кровати, прислушиваясь к дальним гудкам, к стуку движка где-то, должно быть на МТС, к пыхтению какой-то не известной ей машины. Да и за тонкой, оклеенной пестрыми обоями перегородкой, в соседней комнате, еще не спали супруги. Они о чем-то тихо переговаривались. И Нонне Павловне подумалось, что сейчас Филимон про себя вспоминает о ней. Все-таки ему, наверно, обидно, что жизнь его так сложилась, не с ней, а с Дашей. Что из того, что Даша моложе? Любил-то ведь он по-настоящему не Дашу. Да и теперь, увидев свою прежнюю любовь, он, конечно, не мог не пожалеть о прошлом. Нонна Павловна вспомнила, как в Филимоне взыграло сердце, когда он дорогой со станции заговорил о своей дочке Насте, о том, что дочка похожа на тетку, как он вдруг, взгорячась, погнал жеребца и как он смотрел ей в глаза, чем-то потрясенный. Конечно, потрясенный. Эх, Филимон, Филимон...
Нонна Павловна стала стягивать с ноги прозрачный и скользкий капроновый чулок и в этот момент услышала приглушенный, чуть раздраженный голос Филимона:
— Чем это ты намазалась?
Это он спрашивал Дашу.
— Мазь такая. Для лица, — кротко ответила Даша. — Мне Настя дала. Ты против?
— Я-то тут при чем?
— Ну, все-таки, все-таки? Может, тебе неприятно? Это для лица. Настя говорит, нужно заботиться о своем лице...
— Вот именно, — сказал Филимон.
И можно было угадать, что он за перегородкой сердито усмехнулся. И можно было представить себе его суровое, скуластое лицо в тот момент, когда он произнес эти слова.
— Она теперь Нонной называется, — сообщила Даша.
— Как?
— Нонной.
— Это для чего же?
— Ей так гражданин один посоветовал. Вроде как ее бывший муж.
— Ну что ж, ему, наверно, виднее, — опять усмехнулся Филимон.— Но всего бы лучше ей называться Жучкой. На самом-то деле она Жучка и есть. Жучка, которая ненароком забежала в чужой двор. Кто ее поманит, перед тем она и служит. За сладкий кусок...
Тишина. Долгое молчание. Потом Даша обиженно говорит:
— Ты ее манил, еще как манил, да что-то она не больно согласилась...
— Значит, плохо манил, — вздыхает Филимон. Вздыхает и снова, наверно, усмехается. — Не было у меня, значит, в ту пору в руках сладкого куска. Я и сам его тогда не видел. А Жучку известно чем можно приманить...
— Жучка, Жучка! — сердится Даша. — Как не стыдно! Это все-таки моя родная сестра...
— Родная. Так что же, плакать, что ли, нам теперь над ней? — ворочается с боку на бок Филимон, и кровать скрипит под ним. — Люди дело делают, а они, вот эти Жучки, все пробиваются на легкие харчи. Ведь как сказала-то: «Работаю при сатураторе. Вот так при всем она и состоит — при всей нашей жизни. А жизнь идет без нее. Она только барыши собирает...
— Неужели, — спрашивает жена, и голос ее прерывается от волнения, — неужели у тебя никакого Чувства не осталось, Филимон? Неужели у тебя сердце чисто каменное, как у идола какого-нибудь? Ведь ты любил Настю? Ответь: любил? Ответь, я тебя спрашиваю...
— Любил, — глухо признается Филимон. — Думается мне, что любил. И верил, что она человеком будет. Люди уезжают, учатся, ума набирают. А она на что свой разум расходует?
— Вот видишь! Значит, ты ее все-таки любил...
— А теперь тебя люблю. Тебя одну люблю. И главное — уважаю. За все уважаю. И тот несчастный человек, кто уважения не заслуживает...
Слышно, как он дунул в ламповое стекло и как лампа, по-кошачьи фыркнув, потухла.
Нонна Павловна, как замороженная, сидела на кровати. Потом вдруг нестерпимый жар прилил к ее лицу, к плечам, ко всему телу. Ей сделалось душно.
Бессознательным движением она стала снова натягивать чулки и впервые почувствовала, как накурено в доме. Гости накурили и ушли. Надо бы проветрить, раньше чем ложиться спать.
Она поднялась, в одних чулках прошла по комнате, тихонько растворила окно, и прохладный воздух обнял ее. Как рыба, выброшенная на песок, она глотала этот воздух — воздух спасения и жизни, полный запахов только что скошенных трав, целебных и сытных, пропитанных благодатным соком и согретых всемогущим солнцем.
Под окном, вдоль канав, прорытых вокруг молоденьких яблонь, чернела свежевскопанная земля. И яблони дремотно шелестели подсушенной зноем листвой.
Прямо в лицо Нонне Павловне светила луна.
Эта деревенская луна светила ей вот так же, когда Нонна Павловна была еще не Нонной, а Настей — маленькой, худенькой, белобрысой девочкой с тонкими косичками, потом красивой девушкой с крепкими, румяными щеками, которую хвалил в драмкружке за красоту заезжий режиссер Борис Вечерний. И когда ей не спалось по ночам, она вот так же, навалившись грудью на подоконник, смотрела в лунную даль, смотрела бездумно, как сейчас, но волновалась от предчувствия счастья, которое где-то ожидает ее. И она уехала отсюда на поиски счастья.
В городах, где она жила, она как-то не замечала луны. И звезд не замечала. Будто луна и звезды не освещают городов, будто их там не видно. Но свет деревенской луны навсегда остался светом ее счастливых сновидений. И мыслями своими, как все мы, она привыкла возвращаться в родные места, где еще, наверно, помнят ее и где обязательно удивятся, когда увидят, какой она стала — какой была и какой стала.
Всякому человеку, к сожалению, свойственно думать о себе не так, как думают о нем другие. И Нонна Павловна уверена была, что всех в деревне поразит даже ее внешний вид. Ведь в самом деле она похожа на киноактрису. Ведь тот капитан в поезде, Дудичев, что ли, так и уехал в убеждении, что ему повезло, что он счастливо познакомился с киноактрисой. И вдруг сейчас этот деревенский мужик Филимон — ну конечно, мужик! — точно уличил ее в краже, точно раздел ее донага одним только словом «Жучка».