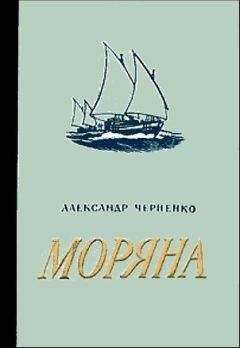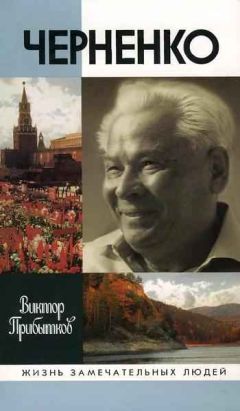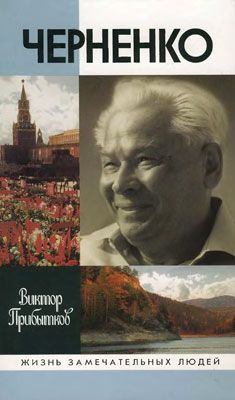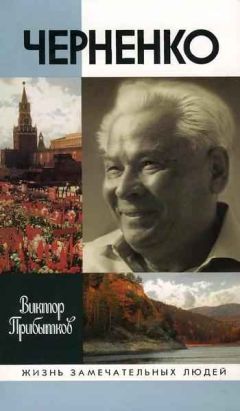— А улов как, Трофим Игнатьевич, у тебя? Благополучно выбрались с моря? Крестник мой как там, Яша?
Снова набив трубку махоркой, Турка закурил.
— С моря выбрались, слава богу, — и он часто задымил. — Только вот... Коляка...
— Что? — и у Захара Минаича по-всегдашнему дрогнули розовые, сытые щеки.
— Коляку словили мы при оборе наших оханов... А лошадь — твоя!..
— Как ты говоришь? — Краснощеков хотел было переставить ноги и не смог.
— Сознался он, что белорыбку тебе сдавал и ты будто знал все это.
Турка беспрестанно, шумно курил.
Разглаживая ноги, Захар Минаич увесисто и складно начал:
— Не верь, кум!.. Всякая мразь, чтобы извернуться, наговором занимается. А ты веришь... Лошадь моя? Да, моя, признаю... А давал я ее Коляке на поездку за камышом. Знаешь, как это у нас: воз мне, воз ему... Вот и все!
— А Коляка говорит... — Турка быстро заложил новую порцию махорки в трубку.
— Кум! Трофим Игнатьич! — умышленно сердито оборвал его Краснощеков. — Кому вера?! Мне или Коляке?
В окно громко постучали.
Захар Минаич поспешно оглянулся.
Снимая шапку и кланяясь, Яков что-то кричал.
Краснощеков закивал головою:
— Зайди, зайди! Да, да! Здесь батька! Зайди!
— Яшка? — приподнялся старый Турка. — Чего ему?
— Не знаю. Сейчас зайдет, — и Захар Минаич снова в упор глянул на кума. — Такие-то вот дела, Трофим Игнатьич...
Яков быстро вошел в горницу.
Сняв шапку, он слегка кивнул головою в сторону Краснощекова:
— Доброе утро, Захар Минаич!
— Здравствуй, крестник!
Пристально взглянув на отца и на Краснощекова и, не поняв, какой оборот принял разговор о Коляке, Яков подошел к отцу:
— Батяша, с кобылой совсем плохо.
— Ну? — забеспокоился Турка.
— Да.
Турка поспешно выбил о ладонь пепел из трубки и направился к двери.
— Покуда, Захар Минаич. Надо с кобылой что-то делать.
— А что с ней такое?
— Перемерзла она. — Турка открыл дверь и неохотно добавил: — И загнали мы ее...
О чем-то переговариваясь, Турки задержались в сенях.
Захар Минаич прислушался; невнятные голоса трудно было разобрать. Вскоре заскрипела лестница.
«Ушли, — облегченно вздохнул Краснощеков. — Поверил или не поверил мне, старый псюга?»
Он оглянулся на окна — по улице торопливо шагали Турки.
Провожая пристальным взглядом кума, Захар Минаич сказал, будто вдогонку ему:
— Хватит с тебя и того, что имеешь... Жиреть очень уж стал. Шибко в гору пошел... Хватит!..
И когда скрылся кум за углом, Захар Минаич начал заботливо разглаживать ноги.
Лешка-Матрос нетерпеливо сидел за столом; часто приподнимаясь, он быстро говорил звучным, будто звенящим голосом:
— Ну, Андрей Палыч, и дела — как сажа бела!..
Улыбка никогда не сходила с его влажных, тонких губ.
— Да-да, — подтвердил Костя Бушлак, молодой и крепко сложенный ловец. — Здорово тряхнул нас шурган...
У Кости было бритое, докрасна ошпаренное морем лицо.
Андрей Палыч молча сидел у окна, задумчиво навивая на кривой, мозолистый палец жидкую черненькую бородку. Перед ним на подоконнике лежала стопка газет, на газетах очки, запечатанный конверт.
— Оханы жалко, Андрей Палыч, — засветился в тихой улыбке Лешка. — Оханы-то новехонькие. Около полсотни концов пропало с этим относом.
— Зато сами остались целы и невредимы, — вставила Евдоша; она копошилась у печки, приготовляя пельмени.
— Нас, тетка Евдоша, ни одна сила не возьмет, — Лешка вылез из-за стола и, припадая на деревянную ногу, важно прошелся по горнице. — Ни пуля, ни море, ни шторм, ни горе...
У Матроса порозовело лицо.
— Ни одна сила не возьмет нас! — И Лешка снова молодецки прошелся по горнице.
Глядя на него, Евдоша добродушно улыбнулась:
— А без ноги вот остался.
— Без ноги, а живой!
Матрос остановился перед Андреем Палычем и спросил:
— А что с Колякой-то случилось?
—Никак не понять, Алексей. Я еще раз заходил к нему. Опамятовался вроде он, а молчит. Я и так и эдак к нему, а он — ни слова... А люди толкуют, будто кто-то подо льдом его протащил. Этого еще зверства не хватало в нонешнее-то, советское время! Зайду еще раз, проверю. А ежели и на самом деле кто озверел — под суд отдадим! Проучим!..
Матрос посмотрел на горку и, сияя доброй улыбкой, убеждающе попросил:
—Поставил бы ты на стол божью водицу, а то как-то сердцу муторно.
Усмехаясь, Андрей Палыч поднялся и медленно прошел к горке.
Лешка внимательно следил за ловцом.
Вернулся он к столу с бутылкой водки и стопками.
—Что ж, Андрей Палыч, может, перед пельменями прополощем горло? — предложил Матрос.
— Хочешь — прополощи, — уклончиво ответил ловец.
Лешка молча налил стопку и так же молча выпил.
— Эх, как бы не усохла божья водица! — он громко пристукнул протезом о пол и заспешил к печке. — Как у тебя, тетка Евдоша, пельмени-то? — Он остановился около рыбачки и засучил рукава: — Давай помогать буду!
Она, смеясь, отстранила его локтем:
— Делайте свои дела, а тут я сама управлюсь.
— Долго что-то ты управляешься, — и он искоса посмотрел на стол, где стояла бутылка с водкой.
Евдоша вытащила из печки чугун и стала бросать в него комочки теста, в которые была завернута наперченная и с луком, вкусная рыбья мякоть. Засунув обратно в печку чугун, она обратилась к Косте:
— Что ж это Татьяна Яковлевна не идет?
— Должна скоро быть маманя. — Костя приподнялся со стула и посмотрел в окно. — Не видать...
Он пожал плечами и снова взглянул в окно.
— Пельмени зараз и готовы. — Евдоша подошла к посуднику и стала снимать тарелки, деревянные ложки.
— Пойду схожу за маманей. — Костя встал и, набросив на плечи полушубок, направился к двери.
— Ты поскорее, — предупредил- его Лешка и, подмигнув, шагнул к полногрудой Зинаиде, дочери Андрея Палыча. — Рада, что Коська в живых остался? А?..
Евдоша осторожно посмотрела на дочку. Зинаида задорно повела плечами, отложила плюшевый кисет, в уголке его она вышивала розу.
— А это кому? — Лешка показал глазами на кисет и рассмеялся: — Не мне ли?
— Сеньке! Вот кому!.. — Зинаида вскочила и прошла к матери, которая, искоса взглянув на дочку, недовольно покачала головой.
Лешка не удивился ответу Зинаиды. Он знал, что ей нравится Костя, но тот почему-то все сторонился ее. Андрей Палыч и Евдоша, смутно об этом догадываясь, не особенно препятствовали дочке гулять с Сенькой.
Однако втайне они надеялись, что, может быть, одумается Костя...
Подойдя к Зинаиде, Лешка снова подмигнул ей и серьезно сказал:
— Ты брось миловаться с Сенькой. Трепло он, как и Митька Казак!
Зинаида, нахмурившись, ушла по другую сторону матери.
— Неправду, что ли, говорю я, а?.. — Лешка безнадежно махнул рукой и двинулся к окну, у которого сидел Андрей Палыч и, надев очки, задумчиво шелестел газетами. — А про наш район и Островок ничего не пишут газеты?
Андрей Палыч не ответил.
— Я спрашиваю, о нас ничего не пишут? — и Лешка заглянул в развернутый Андреем Палычем газетный лист.
— О нас пока не пишут, Алексей.
— Должны писать! Пора!
Андрей Палыч поднял очки на лоб, посмотрел на Матроса.
— Давно должны! — уверенно повторил Лешка. — А свежие газеты были?
— Были.
— И о нас, значит, ничего?
— Ничего! Зато вот обо всех пишут...
— Как это — обо всех? — удивился Лешка.
— Да так. И про тебя, и про меня, и про таких, как мы с тобой, и про других. А называется статья «Год великого перелома».
— «Год великого перелома»... А кто пишет-то?
— Товарищ Сталин пишет — о наших, партийных делах пишет.
— Так бы и говорил! — поспешно сказал Лешка. Лицо его озарилось хорошей, светлой улыбкой. — Товарищ Сталин по-настоящему отпишет! Он по делу скажет. Читай давай!
Глаза Лешки стали ясными, доверчивыми и мечтательными. В памяти вдруг встали дорогие его сердцу картины гражданской войны, встречи с товарищем Сталиным в Царицыне... Грозный восемнадцатый год... Республика Советов в огненном кольце врагов — внутренних и внешних... Э-эх, и тяжелое же времечко было!..
Лешка громко вздохнул, лицо его на секунду помрачнело. Страна истекала кровью, голод душил советские города. Рабочие Москвы и Питера по осьмушке фунта черного хлеба со жмыхом получали, да и то не каждый день. В это время и явился Сталин в Царицын с наказом Ленина: дать волжский хлеб голодной стране, удержать всеми силами город, потому как был он самый надежный пункт, который связывал Волгу с Москвой и Питером.