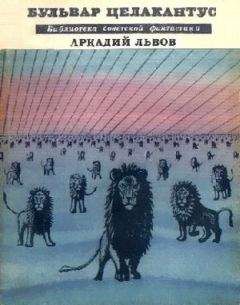— Давай со скалы, — согласился Юзик.
Мы повернули вниз. За рекой показалась знакомая Старая крепость.
Весь ее двор засажен фруктовыми деревьями. Возле Папской башни растут низкие ветвистые яблони-скороспелки.
Сорвешь зрелое яблоко еще задолго до осени, потрясешь над ухом — слышно даже, как стучат внутри его черные твердые зернышки.
Скороспелки, когда созреют, делаются мягкими, нежными, зубы — только тронь такую кожуру — сами вопьются в нежно-розовую рассыпчатую мякоть яблока.
В крепости есть несколько шелковиц. Ягоды, которые созревают на этих деревьях, мы называем «морвой». Они черные и похожи на шишечки ольхи. Когда черная морва созреет, мы, забравшись в Папскую башню, швыряем оттуда сверху на деревья тяжелые камни. С шумом пробивая листву, камни летят вниз, задевают твердые ветви, ветви трясутся, а ягоды осыпаются.
Потом в густой траве, под сбитыми листьями, мы ищем мягкие, приторные, налитые черным соком ягоды. Мы едим их тут же, ползая на коленках под деревом, и долго после этого рты у нас синие, словно мы пили чернила.
Вот уже несколько дней, как на лотках городского базара появились первые черешни. Желтые, совсем прозрачные, желто-розовые, похожие на райские яблочки, и черные, блестящие, красящие губы ягоды доверху наполняют скрипучие лукошки торговок. Торговки звенят тарелками весов, переругиваются, отбивая друг у друга покупателей, и отвешивают черешни в бумажные кульки.
Как мы завидуем тем, кто свободно, не торгуясь, покупает целый фунт и, сплевывая на тротуар скользкие косточки, не торопясь проходит мимо нас!
Так, размышляя о черешнях, я спустился вслед за Юзиком к реке. Теперь крепость высилась над нами справа — высокая, мрачная. Я видел зыбкую ее тень, падающую на воду, и вспомнил о высоких толстостволых черешнях, которые росли во дворе крепости, за Папской башней. Листва у них прозрачная, редкая, а ягоды удивительно сладкие.
«Раз торговки продают черешню на базаре, — подумал я, раздеваясь, — значит, они уже поспели и в крепости».
Я сказал об этом Кунице.
— Ну, так что ж? Давай полезем завтра!
— А когда?
— После обеда.
— Нет, вечером нельзя, — сказал я, — там же снова будут стрелять петлюровцы.
За пороховыми погребами крепости петлюровцы устроили гарнизонное стрельбище. Ежедневно после обеда они отправляются туда на стрельбу, и до сумерек вся крепость трещит от пулеметных выстрелов. Пули с визгом летят как раз в ту стену, по которой надо взбираться до башни.
— Ну, а когда же? — хлопая себя по бедрам, спросил Куница. Он уже разделся и стоял передо мной голый, худощавый.
— Давай утречком, перед школой. Возьмем с собой тетради, чтобы домой за ними не бегать, я зайду за тобой, только ты гляди не проспи, — сказал я, совсем забыв, что мне завтра в гимназию не надо идти.
— Я-то не просплю, — ответил Куница, — но ведь утром сторож шатается по крепости. Как мы полезем на черешню?
— Да. Это верно.
Утром сторож обходит всю крепость, а вот попозже, как раз когда в гимназии начинаются уроки, сидит на скамейке у ворот. Тогда хоть ломай деревья — не услышит.
Сторож не любит, если ребята появляются в крепостном саду. Он заботливо оберегает каждое дерево, весной обмазывает известкой, окапывает вокруг деревьев землю и удобряет ее навозом. Когда фрукты созревают, он собирает их себе. Влезает на дерево по лестнице — даром что хромоногий — и обрывает ягоды, яблоки и даже маленькие кругленькие груши-дички.
— А, есть чего бояться! Ну, увидит, закричит. Подумаешь! Что мы, не сумеем удрать? Ведь не полезет же он за нами по крепостной стене, старый черт! Давай пошли утром, — решил я.
— Пошли! — сказал Куница. — Язда!
Мы оставляем на берегу одежду и пробираемся вверх, на скалу. Какой интерес купаться у берега, на мели, где купаются зареченские женщины? Не купанье, а стыд один! То ли дело вскарабкаться на скалу и оттуда с вытянутыми вперед руками броситься вниз головой в быструю воду. Теплые, нагретые за день скалы колют нам ноги, мелкие камешки осыпаются вниз и шуршат по кустам бледно-зеленой полыни.
Взобравшись на скалу, мы с Юзиком стоим на ней рядом.
Далеко, за плотиной, в воду ныряют утки. Они то и дело подбрасывают кверху свои толстые гузки и сверкают на зеленоватой глади устоявшейся воды красными лапками.
— Вода сегодня, должно быть, теплая-теплая! — говорит Куница и блаженно улыбается.
По мосту гулко проехала телега.
— Давай! — закричал я и, не дожидаясь ответа, с размаху бросился в воду.
Вынырнул на середине речки, ищу Куницу. Его нет ни на скале, ни на воде. Он, черт, хорошо ныряет. Я верчусь волчком на одном месте. Я боюсь, как бы Куница не нырнул под меня и не ухватил за ногу. Это очень неприятно, когда тебя под водой схватят за ногу скользкими руками. Куница пробкой выскочил из воды около самой плотины. Большие круги разбегаются в стороны. Как далеко он проплыл под водой! Мне столько не проплыть.
Мы ныряем вперегонки, достаем со дна кругленькие камешки и желтую глину, взбиваем брызги, чтобы увидеть радугу. Усталые, мы переворачиваемся на спину и лежим на воде без движения. Течение медленно сносит нас вниз к плотине. Вверху расстилается голубое, чуть порозовевшее на западе, прозрачное, без единой тучки, небо!
Завтра будет замечательная погода!
Поздно вечером, когда на дворе было совсем уже темно, я ушел в крольчатник, захватив с собой коптилку и спички.
При тусклом свете керосиновой коптилки я, сняв рубашку, несколько раз царапнул себя по животу толстым осколком пивной бутылки. Вскоре на коже проступили капли крови. Я поморщился от боли и вспомнил, как мне прививали оспу. Вот так же царапала меня ланцетом по руке докторша.
Я посмотрел на стекло. «Поцарапать разве еще? Довольно! — решил я. — Тетка близорукая, все равно не заметит».
Возвратившись в хату, я жалобным голосом объявил Марье Афанасьевне:
— Тетя, я завтра в школу не пойду — доктор запретил — у меня стригущий лишай, и я могу заразить учеников… Поглядите-ка!
Марья Афанасьевна отставила на край плиты горячий противень с жареной, вкусно пахнущей картошкой и, шевеля губами, посмотрела на мой живот.
— Ну что ж, не ходи, только смажь быстро йодом, — сказала она и отвернулась к плите, в которой завывал огонь.
Мне стало даже обидно: старался, старался, пустил кровь, ободрал кожу, а она глянула одним глазом и отвернулась как ни в чем не бывало! Хоть бы пожалела меня, так нет — жареная картошка ей дороже.
Проснулся я рано утром. Солнце еще не поднялось над крышей сарая. Я побежал в огород. Там из самой крайней грядки я одну за другой выдернул розоватые редиски и возвратился в дом. Тихо ступая по кухонному полу, я достал с полки початый теткой каравай хлеба, отрезал себе ноздреватую горбушку и, посыпав хлеб солью, присел на табуретку. Скоро на кухонном столике остались только хлебные крошки да срезанные острым ножом мокрые от ночной росы мохнатые листья редиски. Я уже собрался уходить, как из спальни, позевывая, вышла тетка.
— Ты чего ни свет ни заря поднялся? — спросила она. глядя на меня заспанными глазами.
— А я пойду к Юзику Стародомскому задачи по арифметике решать. Мне ведь в гимназию доктор запретил ходить, вот я дома с Юзиком и позанимаюсь.
— Какие еще задачи спозаранку? Людей будить. Врешь ты, наверное… — буркнула Марья Афанасьевна и мягкими шагами подошла ко мне. — А ну, покажи лишай! — приказала она.
Я осторожно, так, будто на теле у меня была опасная рана, оголил живот и показал покрасневшее место под первым ребром. Тетушка прищурила заспанные глаза и, чуть не прикоснувшись носом к моему мнимому лишаю, сказала:
— Ну, пустяки — он проходит… Затягивается уже.
— Какое там затягивается! — крикнул я и быстро опустил рубашку. — Это вам так кажется, а мне больно и чешется здорово. Ой, как чешется! — И обеими руками я стал быстро и ожесточенно, перед самым носом тетки, расчесывать свой живот.
— Да ты с ума сошел! Не чеши! Не чеши, тебе говорят, — испуганно замахала руками тетка, — расчешешь, а потом и чесотка пристанет. Перестань чесать! Иди лучше смажь цинковой мазью.
Я иду в спальню. С шумом открываю левый ящик комода, в котором тетка хранит свои лекарства.
Я окунаю мизинец в фарфоровую баночку с цинковой мазью. Потом, приподняв рубашку, густо смазываю свой мнимый лишай и наклеиваю круглый кусочек пластыря. Это затем, чтобы показать Кунице. Пусть рана выглядит пострашнее, тогда он расскажет о ней в классе, и никто даже не подумает, что меня исключили из гимназии.
— Выпей молока! Тут осталось вчерашнее, кипяченое! — закричала мне из кухни Марья Афанасьевна.
Она уже загремела кастрюлями и противнями.