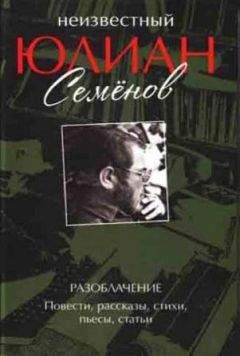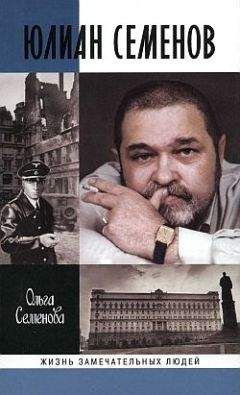Парень, однако, появился снова. Он несколько раз уходил с площади, снова появлялся, возле ворот костела поворачивался и быстро скрывался в переулке. Аня подождала до десяти, потом вышла из-под козырька и неторопливо пошла в переулок следом за парнем. Возле парикмахерской он постоял минуту, повернулся и двинулся навстречу Ане – к площади. Когда открылась дверь парикмахерской и оттуда вышел мужчина в потрепанной немецкой форме без погон, парень, словно бы увидел это затылком, остановился и начал потуже застегивать краги. Он застегивал краги до тех пор, пока человек в немецкой форме не прошел мимо него – на площадь.
«За ним следят, – решила Аня, – если это Муха, за ним слежка. Что делать? Если я подойду к нему, значит, нас поведут двоих».
Через пять минут к парню в крагах подъехал на велосипеде мальчишка в коротких штанах и в майке-безрукавке. Они поздоровались, мальчишка слез с седла, парень в крагах посадил его на багажник («У нас на раме ездят», – успело мелькнуть у Ани), и они уехали с площади.
«А я-то с ума сходила, – сказала себе Аня, – вот сумасшедшая!» Она не обратила внимания на девушку, которая вышла на площадь с той улицы, куда только-только укатил на велосипеде парень в крагах с мальчиком на багажнике.
И тут к костелу подошел Муха – она его сразу узнала.
– Простите, – сказала Аня и откашлялась, потому что у нее запершило в горле, – вы тут старушку с двумя мешками не видели?
– Что? – удивился Муха. – Не видел я никакой старушки…
Аня несколько мгновений смотрела ему в глаза, а потом повернулась и пошла через площадь к костелу.
«Он решил не идти со мной на контакт. Почему он должен идти на контакт со мной, когда он ждет резидента в синем костюме? Что же делать, а? Объяснять ему? А вдруг это не он? Он. Наверняка он. Он ответил мне по-русски. Дурак! Зачем он отвечал мне по-русски, если не хочет засветиться? Машинально? Разве ж так можно?!»
– Пани! – вдруг крикнул парень у нее за спиной. – Постойте, пани!
Он подбежал к ней запыхавшись. Лицо его было бледно, губы – Аня очень четко увидела это – пересохли и потрескались, сделались чешуйчатыми, как у мальчишек после первых заморозков, когда они сосут сосульки.
– По-моему, она недавно уехала с попутной машиной, – сказал Муха. – Уехала та старуха. С попутной машиной уехала…
Они быстро пошли вперед – он на полшага перед ней, заглядывая ей в лицо; он прямо-таки впился глазами в ее лицо, а она, торопясь, шагала за ним. Ей казалось, что он так жадно смотрит на нее потому, что она оттуда, с Большой земли, и поэтому она улыбнулась ему. А он так жадно смотрел на нее потому, что она была хороша, очень хороша, и он силился представить себе, что станет с этим лицом, когда она очутится там, где должна будет очутиться вскоре.
Аня оглянулась, с трудом оторвавшись от его воспаленных глаз с покрасневшими белками. Улица была пуста – шла девушка, совсем еще молоденькая. На нее Аня не обратила внимания. (Она не могла себе представить, что от этой молоденькой девушки будет зависеть ее жизнь – в эти ближайшие часы и дни.)
Муха привел ее в маленький домик на окраине Рыбны. В домике было две комнаты. В одной, с небольшим окном, выходившим на улицу, жила глухая старуха, а в большой комнате с тремя окнами, заросшими плющом и диким виноградом, было прибрано и пусто, как после покойника.
– Здесь будешь жить, – сказал Муха. – Кроватка видишь какая? С пружинами – спи, как дома. Отдохнешь? Или поговорим? Где остальные?
Аня присела на край кровати и сказала:
– Знаешь, я полчаса полежу, а то пока тебя ждала – совсем выдохлась.
Она сбросила туфли и подтянула к голове подушку. Тело ее стало тяжелым и словно бы чужим. Аня увидела со стороны свое тело, и ей стало вдруг беспричинно и пронзительно жаль себя.
«Ничего, – подумала она, – это бабье, это можно перебороть. В первый раз тоже так было. Главное, я его встретила. Двое – не одна, теперь все в порядке».
С этим она и уснула. Муха сидел возле окна, смотрел на спящую девушку, на ее сильные ноги, на красивое и спокойное во сне лицо, на грудь, видневшуюся в вырезе кофточки; он смотрел на человека, обреченного им, и тихонько похрустывал пальцами, каждым в отдельности – сначала первой, потом второй фалангой, а потом двумя фалангами вместе. Звук был такой, словно кто-то щелкал орешки.
Муха сидел недвижно, как изваянный. Он должен был сидеть здесь до тех пор, пока девушка не проснется и не скажет ему, где рация и шифры. Потом они привезут все это сюда, и он будет поставлять ей дезинформацию, и она начнет передавать дезинформацию в Центр, Бородину, а потом надо будет найти руководителя группы, который выброшен вместе с ней, и сделать так, чтобы он встретился с Бергом – именно в тот миг, когда его можно будет взять «с поличным». Что дальше будет – это уже Муху не волновало. Они после отправят его в тыл, в Германию, подальше от войны, от ужаса и крови. Хватит с него. Хватит с него того, что он видел. Хватит с него бессонницы, страха и надежд, которым не суждено сбыться. Там у него ничего не может быть – ничего, кроме того, что было в коммунальной квартире. Здесь у него будет маленькая автомастерская, коттедж, где не пахнет керосинками и щами, и машина марки ДКВ. Больше ему ничего не надо. Ничего. Он все время чувствовал у себя на затылке чужие глаза – с того часа, как выбросился сюда. Он больше не мог так, не выдерживали нервы. Все это ему предложил Берг – маленькое, но его. И он согласился. Согласился потому, что не мог поступить иначе: сдавали нервы. Хватит с него, хватит!
Посредине Кракова – поразительный в своей средневековой красоте Старый рынок. Два костела, выложенная каменными плитами площадь, крытые ряды Сукеницы, снова площадь, устланная серыми плитами, а вокруг двух– и трехэтажные дома с островерхими черепичными крышами. Еще до войны дома были выкрашены в разные цвета – желтый, красный, серый, но теперь краска выцвела, местами облупилась, и поэтому площадь была не игрушечно-средневековая, как раньше, а казалась по-настоящему перенесенной сюда из давно ушедших веков.
С раннего утра площадь Старого рынка гудела. Здесь была самая крупная толкучка: меняли костюмы на сало, живопись Матейко на яйца, бриллианты на самогон, оккупационные марки на довоенные злотые, сапоги на табак – чего только здесь не меняли в тот год!
И среди этого гомона, составленного из выкриков торговцев, быстрого шепота спекулянтов, плача потерявшихся детей, истерики, если вытащили из кармана продуктовую карточку на жиры, – среди этого монотонного шума, похожего, если закрыть глаза, на карнавальный вечер в городском саду, только продавцы икон и корма для голубей были молчаливы и тихи. Они не ходили взад и вперед, они никому не предлагали свой товар. Они стояли безмолвно с утра и до вечера, когда торговля кончалась, или до того момента, когда раздавались свистки полицейских и рынок, как громадная морская волна, все сметающая на своем пути, слизывал людей, оставляя на серых плитах обрывки газет, коротенькие, обгоревшие до пальцев, окурки, яичную скорлупу и огрызки моченых яблок (сразу видно, приехали торговать из села) да порой галошу или ботинок, слетевший с ноги во время бегства при облаве.
Эта суббота ничем не отличалась от всех остальных дней. Так же было людно, тревожно и душно. Так же через каждые полчаса трубач на костеле высовывался на пятидесятиметровой высоте в окошко и играл своим длинным средневековым серебряным горном позывные тревоги. Он играл до середины и резко обрывал пронзительно-чистый мотив. Так было многие столетия. Предание рассказывает, что трубач увидел из своего окошка татар, которые двигались к городу молчаливой, устремленной пыльной лавиной. Он затрубил тревогу, но не успел допеть свою песню до конца – его пронзила стрела. С тех пор каждые полчаса трубач – днем и ночью – обрывает свою песню тревоги на высокой плачущей ноте.
Было очень жарко, и Вихрь, пробираясь сквозь толпу, заметил, как босой паренек, менявший дамские ботинки на хлеб, не мог стоять на горячих плитках – все время переступал с ноги на ногу, поджимая пальцы, и норовил подольше продержаться на пятках: не так жгло ступни.
Вихрь шел медленно, разглядывая людей, собравшихся здесь. Рядом с ним плечом к плечу двигался гестаповец, переодетый под слепца, – весь в черном, с синими очками на курносом веснушчатом носу.
Когда Вихрь посмотрел на него в камере, перед выходом на толкучку, ему стало весело. «Болваны, – подумал он, – у слепца никогда не может быть такого аккуратного курносенького веснушчатого носа. Слепота всегда накладывает отпечаток трагизма на лицо человека. А этот – румяный и сытый. Болваны!»
Второй гестаповец шел справа, чуть поодаль. Он был одет под крестьянина. Третий шел впереди и часто оглядывался, словно отыскивая кого-то в толпе. Пять других сотрудников гестапо заняли ключевые позиции вокруг рынка – на перекрестках улиц, так, чтобы видеть друг друга и обеспечить преследование в случае, если русский попробует бежать от своих непосредственных сопровождающих. О том, что рынок будет оцеплен, Вихрь догадывался, хотя про этих пятерых ему, естественно, ничего не говорили перед выездом из гестапо.