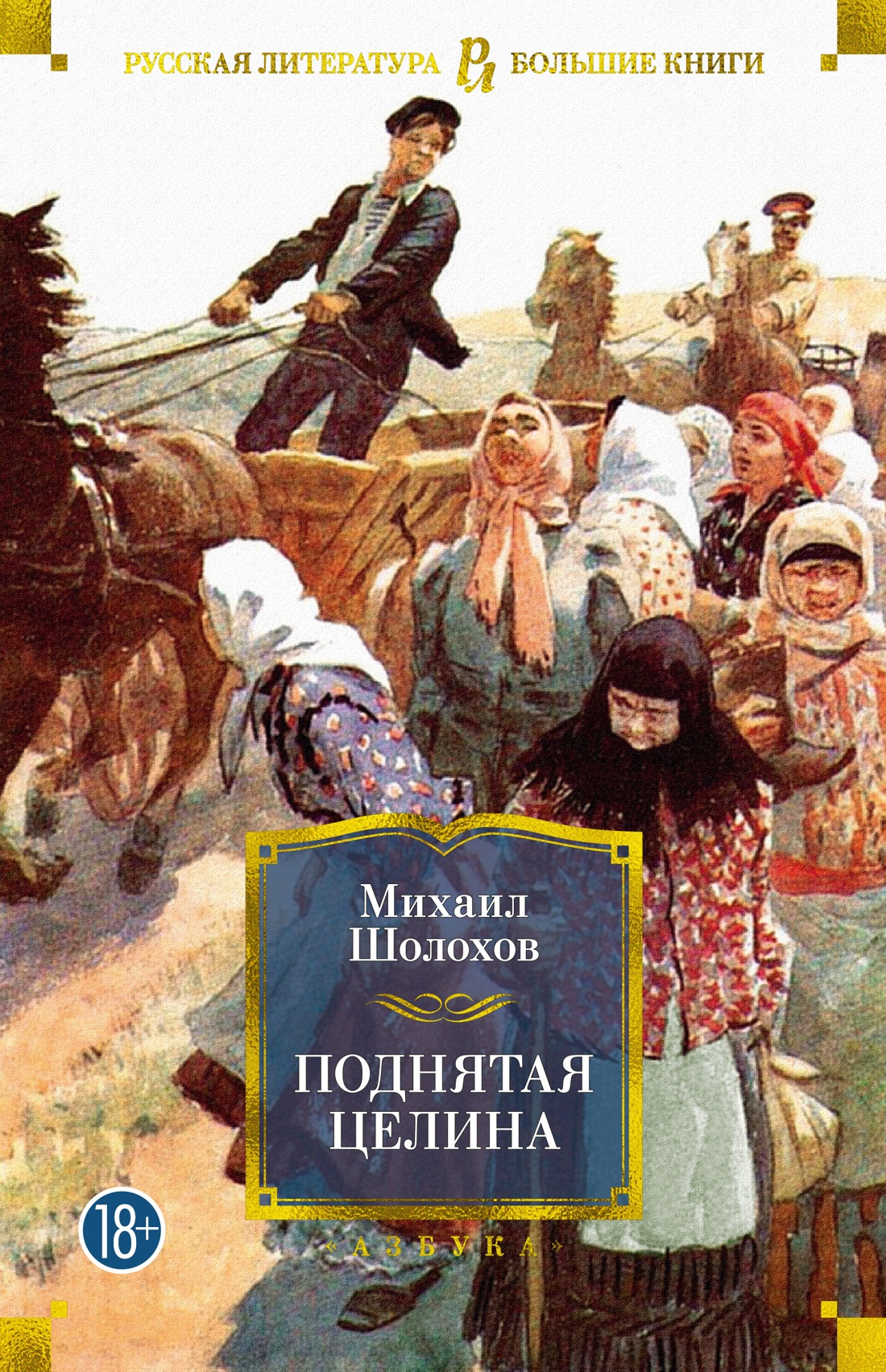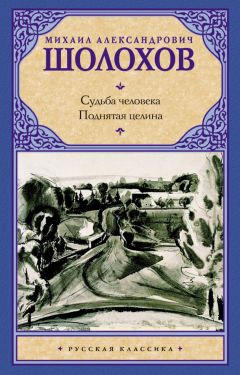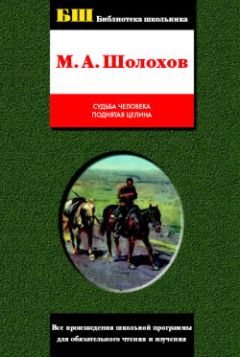дай бог, Давыдов об этом прознает — я ему так-таки напрямик и выложу: „Изничтожьте вашего треклятого козла Трофима — тогда и я в дороге спать не буду. Всею ночь он возле меня джигитует по сену, какой же тогда могет быть у человека сон? Одно расстройство!“
Повеселевший от приятной перспективы побывать в гостях у Дубцова, Щукарь заулыбался, но старуха и тут ухитрилась испортить ему настроение:
— И чего ты жуешь, как параличный? Послали тебя, так ты не копайся, как жук в навозе, а езжай поскорее. Да глупые книжные слова из головы выкинь и мне их сроду не говори, а то походит по твоей спине рогач, так и знай, старый дурак!
— Любая палка об двух концах, — невнятно пробормотал дед Щукарь.
Но, приметив гневные морщинки на лице своей владычицы, наскоро дохлебал молоко, попрощался:
— Ты уж лежи, милушка, не вставай без толку, хворай себе на доброе здоровье, а я поехал.
— С богом! — не очень-то ласково напутствовала его старуха и повернулась спиной.
* * *
Километров шесть от хутора до отножины Червленой балки дед Щукарь ехал шагом, сладко дремал, изредка клевал носом и, окончательно разморенный полуденным зноем, один раз за малым не свалился с линейки. «Этак недолго и на бровях пройтиться», — опасливо подумал Щукарь, сворачивая в балку.
В теклине Червленой по пояс стояла пряно благоухающая нескошенная трава. Откуда-то с верховьев балки по глинистому ложу ее струился родниковый ручеек. Вода в нем была прозрачна и до того холодна, что даже жеребцы пили ее маленькими и редкими глотками, осторожно цедя сквозь зубы. Возле ручья стояла густая прохлада, и высоко поднявшееся солнце было не в силах прогреть ее насквозь. «Благодать-то какая!» — прошептал Щукарь, распрягая жеребцов. Он стреножил их, пустил на попас, а сам расстелил в тени тернового куста старенький зипунишко, лег на спину и, глядя в обесцвеченное жарою, бледно-голубое небо такими же, как и небо, бесцветно-голубыми старческими глазками, предался житейским мечтаниям:
«Из этакой роскошности меня до вечера и шилом не выковыряешь. Отосплюсь всласть, погрею на солнышке свои древние косточки, а потом — к Дубцову на гости, кашку хлебать. Скажу, что не успел дома позавтракать, и непременнейше меня покормят, уж это я как в воду гляжу! А почему, собственно говоря, в бригаде обязательно должны есть пустую кашу или какую-нибудь паршивую затирку ложками по котлу гонять? Не таковский он парень, этот Дубцов, чтобы на покосе говеть. Такая рябая шельма небось и дня без мясца не проживет. Он овцу где-нибудь в чужом гурте украдет, а косарей накормит!.. А неплохо бы к обеду кусок баранинки, этак фунта на четыре, смолотить! Особливо — жареной, с жирком, или, на худой конец, яишни с салом, только вволю… Вареники со сметаной — тоже святая еда, лучше любого причастия, особливо когда их, милушек моих, положат тебе в тарелку побольше, да ишо раз побольше, этак горкой, да опосля нежно потрясут эту тарелку, чтобы сметана до дна прошла, чтобы каждый вареник в ней с ног до головы обвалялся. А ишо милее, когда тебе не в тарелку будут эти варенички класть, а в какую-нибудь глубокую посудину, чтобы было где ложке разгуляться!»
Дед Щукарь никогда не отличался чревоугодием, он просто был голоден. За свою долгую и безрадостную жизнь он редко ел досыта и только во сне объедался разными вкусными, на его взгляд, кушаньями. То снилось ему, будто ест он вареную баранью требушку, то — сворачивает трубкой и, обмакнув в каймак, отправляет в рот огромный ноздреватый блин, то — спеша и обжигаясь, без устали хлебает он наваристую лапшу с гусиными потрохами… Да мало ли что ни снилось ему длинными, как у всякого голодного, ночами, но просыпался он после таких снов неизменно грустным, иногда даже злым, говорил про себя: «Приснится же такая скоромина ни к селу ни к городу! Одна надсмешка, а не жизня: во сне, изволь радоваться, такую лапшу наворачиваешь, что ешь не уешься, а въяве — старуха тюрю тебе под нос сует, будь она трижды, анафема, проклята, эта тюря!»
После таких снов дед Щукарь до завтрака потихоньку облизывал сухие губы, а во время скудного завтрака горестно вздыхал и вяло орудовал щербатой ложкой, рассеянно вылавливая в миске кусочки картофеля.
Лежа под кустом, Щукарь еще долго думал о том, что может быть в бригаде подано на обед, а потом некстати вспомнил, как он наелся на поминках по матери Якова Лукича, и, окончательно растравив себя воспоминаниями о съеденной пище, вдруг снова ощутил такой острый приступ голода, что дремоту с него как рукой сняло, и он остервенело плюнул, вытер бороденку и стал ощупывать ввалившийся живот, а потом вслух заговорил:
— Кусочек хлеба и кружка кислого молока — да разве же это еда для настоящего мужчины-призводителя?
Одна воздушность, а не еда! Час назад живот у меня был тугой, как цыганский бубен, а зараз? А зараз он к хребтине прирос. Господи боже ты мой! И всею-то жизню об куске хлеба насучного думаешь, о том, чем бы чрево набить, а жизня протекает, как вода скрозь пальцев, и не приметишь, как она к концу подберется… Давно ли проезжал я по этой Червленой балке! Тогда терны цвели во всю ивановскую, белой кипенью вся балка взялась! Дунет тогда, бывало, ветер, и белый духовитый цвет летит по балке, кружится, как снег в сильную метель. Вся дорога внизу была укрытая белым, и пахло лучше любой бабьей помады, а зараз почернел этот вешний цвет, исчезнул, сгинул окончательно и неповоротно! Вот так и моя никудышная жизня под старость взялась чернотой, и вскорости уже придется бедному Щукарю стоптанные копыта откидывать на сторону, тут уж ни хрена не поделаешь…
На этом философски-лирические размышления деда Щукаря закончились. Жалость к самому себе обуяла Щукаря, он немного всплакнул, высморкался, вытер рукавом рубахи покрасневшие глаза и стал дремать. От печальных дум его всегда тянуло на сон.
Засыпая и даже в этом состоянии оставаясь верным своему характеру, он сладостно заулыбался, блаженно щуря глаза, подумал сквозь сон: «Непременно будет у Дубцова в бригаде свежая баранина на обед, чует мое сердце! Ну, четыре фунта за присест я, конечно, не уберу, это я малость погорячился и примахнул лишку, а три фунта или, скажем, три с половиной — с маху и без единой передышки! Была бы эта баранинка на столе, а там уж Щукарь небось не промахнется и мимо рта не пронесет, будьте спокойные!»
Часам к трем