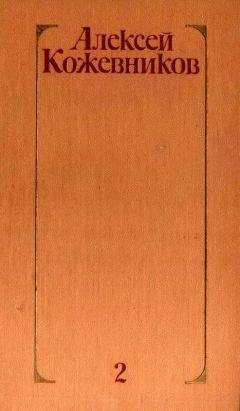Угнетаемые оводами, зноем, жаждой, дальними переходами в поисках съедобной травы, кони стали раздражительны, драчливы, злы.
Всякий раз, провожая косяки с водопоя на пастьбу, Урсанах наказывал табунщикам:
— Ходите отдельно, — то есть не допускайте сближения косяков.
В степи можно ходить отдельно: степь велика, а на водопое косяки поневоле сближались, и там дежурили обе смены табунщиков. Все замечали, что косячник Буян замышляет драку; вид у него был самый разбойный: голова то и дело поднималась, высматривала, зубы щерились, по телу, от ушей до копыт, пробегала дрожь. И как ни сторожили его, однажды Буян отбросил всякие хитрости, уловки и на глазах у табунщиков кинулся к жеребцу Петуху, который стоял ближе других.
Табунщики помчались наперерез драчуну. Раньше всех подоспел Олько и замахнулся на жеребца кнутом, но тут бывший под табунщиком недавно обученный укрючный конь Гнедко струсил и остановился. Буян с маху ударил его грудью в бок. Гнедко сунулся на коленки. Табунщик вылетел из седла и, шлепнувшись наземь, несколько раз перевернулся кубарем. Внутри у него екнуло, что-то подкатило к горлу: он еле встал и продохнул этот комок.
Первой, привычной мыслью было — снова в седло, но Гнедой со всех ног улепетывал в степь.
— Трус! Баран! Сегодня же спущу в котел! — крикнул вслед ему табунщик, щелкнув бичом.
Раздался свирепый звериный рев в две глотки. В вихре пыли извивались, тоже как вихрь, два сцепившихся огромных тела — Буян и Петух, — мелькали зубы, копыта, летели космы грив, клочья шерсти. Боргояков, Смеляков и еще два табунщика лупили драчунов кнутами, пытались арканить, но разъяренные жеребцы даже не замечали этого.
В руках у Олько был только кнут — аркан умчал с собой Гнедко, и, не видя ничего другого, табунщик бросился к костру, на котором варили обед, схватил горящее полено и с ним к жеребцам, прямо в свалку. И огнем-то разогнал не скоро.
Жеребцы сильно покусали друг другу шеи, холки и в таком состоянии не годились для косячной службы; их угнали в Главный стан, в конский изолятор.
Осмотрев драчунов, Павел Мироныч долго сокрушался:
— Это вот происшествие! Еще бы чуток — и вывози обоих на свалку. Обоих — целый мешок денег — в овраг.
Табунщики, кроме Олько, отделались легкими ушибами, у Олько же были обожжены руки и ранено правое плечо. Его положили в больницу.
Аннычах сказала матери, что поедет навестить Олько.
— Т-ш-ш… — сердито зашипела Тойза, косясь на терраску, где Эпчелей и Урсанах сидели за трубками. — Выбрось из головы. Эпчелей про Олько и слышать не может. Он заест меня. И тебя не похвалит. Всем плохо будет.
— А что?
— Придумает. Эпчелей у-у… строгий. Вот уедет куда-нибудь, тогда можно.
Тойза считала Олько еще маленьким, и в том, что Аннычах повидается с ним, не находила для жениха обиды. Но Эпчелей не терпел его, пожалуй, больше, чем Конгарова: Аннычах не такая дура, чтобы променять лучшего табунщика, наездника и охотника на человека, умеющего стрелять только фотоаппаратом и считающего самым дорогим оружием ржавые ножи. Это не соперник. А Чудогашев Олько стреляет уже без промаха, скоро догонит Эпчелея и во всем прочем.
— Берись-ка за иголку, — продолжала Тойза. — Про Олько пускай другие думают. У тебя есть своя забота.
Девушка села к рабочему столику, но не за шитье, а расплетать косы. Распустив, она разделила волосы пополам и заплела две косы, как носят замужние хакаски, потом, распустив эти, заплела тринадцать, как носят девушки, и снова — две, тринадцать… И так много раз.
— Вот-вот. Привыкай, привыкай, — одобряла ее и радовалась Тойза, не догадываясь, что для Аннычах переплетанье кос значит совсем другое, оно — выражение ее внутренней борьбы: выйти за Эпчелея или отказаться?
На тропинке между домиком и бараком Урсанах заметил Конгарова, подумал: «Наверно, к нам. Опять шум будет», — и вышел навстречу.
— Я прощаться, — сказал Конгаров: он закончил работу и собирался уезжать. — В дом-то к вам можно?
— Однако, лучше не входить. Там Эпчелей, моя старуха и еще одна, чужая, ну, которая… — Урсанах покрутил рукой, как вертят швейную машинку. — Хорошего не услышишь. — И уныло опустил голову.
Как и предполагала Аннычах, отец разговаривал о ней с Конгаровым и после того жил в тяжелом раздвоении: Тойза и Конгаров — он больше не сомневался в нем — одинаково желают для Аннычах добра, но понимают его так разно, что вместе никак не соединишь, надо выбирать. Старик видел хорошее и у Тойзы и у Конгарова и никак не мог решить, чье же добро лучше.
Молча раскурили по трубке. Конгаров кивнул на домик:
— Попрощайся там за меня, — и подал руку.
— Давай еще покурим, — сказал Урсанах. Ему не хотелось расставаться, и особенно вот так — на улице, когда дом рядом. Он полюбил Конгарова за его общительный характер, интересные рассказы, за участие к Аннычах, за горячее отношение ко всему.
После второй трубки разошлись.
Тойза спросила Урсанаха, о чем он так долго разговаривал с «этим». Она по-прежнему называла Конгарова местоимениями, но если раньше они шли от глубоких дружеских и материнских чувств, то сейчас — от неприязни и пренебрежения.
— Уезжает. Велел передать тебе и Аннычах последний поклон.
— Может увозить его с собой, — проворчала Тойза, — нам меньше мусору.
Аннычах спрятала за пазуху письмо, клочки объявления о приеме в техникумы, незаметно выскользнула из дому и пустилась бегом к курганам. Она не спросила отца, когда уезжает Конгаров, и боялась, что уже не застанет его.
Конгаровская палатка стояла на месте.
— К вам можно? — со страхом спросила девушка: после того, как человека выгнали, очернили, было трудно рассчитывать на хороший прием.
— Аннычах? Можно, можно!
Конгаров оглядел свою маленькую палатку, куда бы посадить девушку, и начал грудить вещи. Но Аннычах сказала, что она только на минутку, попрощаться.
— А мы посидим на завалинке. — Он вышел из палатки, взял девушку за обе руки, сильно тряхнул их, затем кивнул на камень рядом с палаткой, который называл завалинкой. — Ну, посидим! Как ты вовремя! Я уезжаю ведь. Что нового?
— Ничего.
Девушка достала клочки объявления и попросила совета, в какой техникум поступить ей.
— Решила учиться? Как же с Эпчелеем?
…Клочки объявления разложили на камне. Конгаров рассказывал о техникумах. Девушка выбирала, какой подходит для нее. Горный, речной не годились: она хотела работать на своем заводе. Самыми подходящими были коневодческий и сельскохозяйственный.
Сзади к ним незаметно подъехал Эпчелей; вложив в рот два пальца, он пронзительно свистнул и бросил аркан, который упал рядом с Конгаровым и Аннычах.
Они испуганно обернулись.
— Что такое? — крикнул Конгаров.
— Шутка. — Эпчелей оскалился в беззвучном смехе, затем круто повернул коня и уехал.
Около ручья, где был кустарник, он снова бросил аркан. Один из кустов вдруг сорвался с места и, высоко подпрыгивая, отряхая землю и листья, помчался за Эпчелеем.
Аннычах и Конгаров молча, нахмуренно глядели ему вслед.
Вдруг девушка сильно вздрогнула.
— Хорош шутник! — Торопливо собрала клочки объявления, протянула Конгарову руку: — До свиданья! Спасибо! Если буду в городе, можно зайти к вам?
— Обязательно. Мы ведь друзья.
— Не сердитесь на нас!
— И не думаю.
Дома она позвала мать с отцом и объявила, что замуж не пойдет, а сейчас же поедет в Главный стан хлопотать об учении.
…Тойза, обхватив руками голову и мотая ею, то бранила Конгарова: «Он, все — он», — то себя: «Вот уродила дочку», — то приходила в ужас: «Заест меня Эпчелей. Что скажут люди?»
Урсанах, бегая из угла в угол, досадовал:
— Ах, какая ты! Перестань! Эпчелей, люди… Готова ради них дочку в петлю сунуть. Ей жить — она и решает.
Он был доволен, что Аннычах опять шумит, смеется, а то была, как зимняя муха.
Девушка собиралась в дорогу. Но с этой свадьбой так перебуторили все в доме… Ей стало ненавистно приданое, стеснившее комнату, опоганенное болтовней старушонки портнихи; она начала хватать его и безжалостно втискивать в сундуки. Потом вышла к матери, обняла, ластилась, утешала:
— Ничего тебе не сделает Эпчелей. Я отвечу сама. — Услышав стрекот швейной машинки, она вбежала к портнихе: — Стой! Довольно, отшились! — забрала охапкой недошитые вещи, материю, нитки и тоже бросила в сундук.
Наконец в доме стало как до помолвки.
— Я поехала в Главный стан. — Девушка поцеловала мать. — Зря плачешь, зря.
Полуобученный Игренька мчался во всю прыть; он был еще до того неопытен, что ему казалось: от узды, седла, всадницы можно убежать, надо только постараться. У Аннычах было радостно, весело, свободно на душе, из груди неудержимо рвались песни. И почему-то милей всех была колыбельная, которую певала она над своими игрушками: