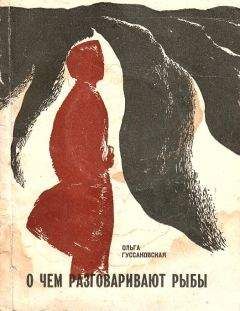Алексей Петрович тронул прораба за плечо.
— Подожди, Семен Васильевич! По шпаргалке о таком большом деле не скажешь. Конечно, другие могут не согласиться со мною, но я думаю, такое обязательство нам еще рано брать. Не выполним. А хуже нет — замахнуться, да не ударить. Это право никто у нас не отберет: будем и коммунистической бригадой, но работать-то по-коммунистически надо выучиться раньше! Вот и начнем учиться.
— Крепкая нужна наука — это точно, — охотно подтвердил Кряжев, и опять его слова чуть заметно изменили чужую мысль. Но на этот раз на них никто не обратил внимания.
Несмотря на открытую дверь, стало душно. Я встала, чтобы выйти на улицу, и тогда увидела Любку. Она стояла на пороге за Костиным плечом. Зеленоватые глаза в упор смотрели на Кряжева с откровенной непрощающей ненавистью.
Но я не успела задуматься над этим. Меня отвлек голос Алексея Петровича.
— Коммунистов здесь нет, говорите? — он отвечал на какой-то вопрос прораба. — Комсомольцы есть! Они и пойдут впереди.
Ласково притянул к себе Женю, улыбнулся…
— Вот вам и организатор!
Что сделалось с Жениными глазами! Им не хватало места на лице!
— Эта девчонка-то? — недоверчиво спросил прораб. — Здесь же тайга.
— Не девчонка, а комсомолка! — горячо вступился Лева. — И она не одна, мы поможем.
— Комсомольцы, вперед! — полушутя, чтобы не показаться смешным, сказал Толя и, словно нечаянно, поравнялся с Левой.
— Да, именно так: «Комсомольцы, вперед!» — серьезно подтвердил Алексей Петрович. — Только так!
В августе ночи темные. С речки ползет туман. Ночной смене трудно. Женя приходит под утро продрогшая, молчаливая. Не взглянув на горячий чай, быстро раздевается и ложится рядом со мной: «Ох, согрей меня, Леночка!»
Руки у Жени тонкие, детские, и вся она по-детски доверчивая и милая… Если бы у меня была дочь, я Так же грела бы ее своими руками, так же тихонько прятала в тлеющие угли кружку с горячим чаем.
Мы уже две недели живем без начальства. Алексей Петрович ушел на базу. Словно бы все идет как прежде. Только чуть что — шутят: «Нас не замай, — мы теперь комплексные!» И еще что-то появилось. Люди как бы приглядываются друг к другу, мысленно спрашивая: «А что ты можешь?» Больше интересуются тем, что делается на Большой земле. Но все это внешне почти незаметно — как талая вода под коркой льда.
Не люблю слова «перевоспитание». Оно так же далеко от истины, как и те кинонегодяи, что за полтора часа успевают пройти путь от убийцы до святого.
И все-таки люди меняются. Иногда настолько, что их потом трудно узнать. Бывает, что характер меняют обстоятельства. Иной раз и минута длиннее года. А чаще добрая, светлая сила, которая дается иным людям. Перед ней отступает все.
По-моему, такая добрая сила дана нашему Алексею Петровичу, и основа ее в том, что он очень верит во все, что делает и говорит. Сейчас его нет, но сила его — с людьми.
Сегодня Женя опаздывает. Даже ее сменщик Лева уже успел встать. Сидит у стола и мрачно пьет чай. За оконцем чуть брезжит рассвет, на столе мигает свеча. Около нее прораб уже два часа сыплет и сыплет на бумагу цифры. Может, доказывает нерентабельность нового метода труда?
Жизнь кажется Леве горше хины. Он ворчит:
— Лен, а пирожки когда сделаешь? Ведь обещала. Не могу я эту песчано-глинистую конструкцию грызть! Из нее впору дома строить!
— Съешь, не помрешь, по крайней мере хоть зубы вычистишь, Левушка, — шучу я.
«Конструкция»— это наш хлеб. Марья Ивановна привозит его раз в две недели. К концу этого срока из хлебных кирпичей действительно можно строить дома… И никак не удается уговорить ее ездить за хлебом чаще.
Жени все нет. Уж не случилось ли у них чего?
— Лева, я, пожалуй, с тобой пойду.
Налила в термос чая, сунула в карман плаща пару кусков хлеба с маслом. Замерзла, наверное, девчонка. Линия уже несколько дней проходит в низине, там ночью и у костра не отогреешься.
За порогом домика нас облепил туман. Казалось, он весомо лег на плечи, мешает идти.
Такой туман бывает только на рассвете, накануне погожего дня. Он стелется низкой слепой полосой, чуть выше роста человека, и не редеет, а рвется на клочья, которые еще долго потом прячутся по ложбинам и водомоинам.
Уже и сейчас где-то высоко над нами, там, где сомкнулись невидимые кроны деревьев, взошло солнце. Странный розоватый свет пробивается оттуда и вместе с ним — голоса птиц. Как всегда, громче всех верещат кедровки. У них каждое событие нехитрой птичьей жизни обсуждается, как на коммунальной кухне.
Но вот кедровки на минуту смолкли, и тогда стал слышен другой звук — словно кто-то быстро постукивал звонкими сухими палочками. Пением это нельзя было назвать, и даже трудно было поверить, что эти звуки издает живое существо. В их несовершенстве было что-то очень древнее.
Лева схватил меня за руку:
— Глухарь! Эх, снять бы его сейчас!
— Во-первых, запрещено, а во-вторых, где кедровки, которых ты собакам настрелять обещался? Летают?
— Да ну тебя, Ленка! С тобой, как с мужчиной, говоришь, а ты… Разве ты понимаешь душу охотника!
Повздыхал обиженно и вдруг неловко спросил:
— А ты хоть термос захватила? Чаю бы ребятам отнести.
Я отлично знала о каких «ребятах» идет речь, но просто ответила:
— А как же? На всех хватит.
Откуда-то с неба долетели голоса людей.
— Идет, что ли? — звонко спросила Женя.
— Нет, поблазнило тебе, — лениво ответила Любка.
Я не сразу сообразила, что они залезли по круче на сопку погреться на солнышке. Через пару шагов и мы уперлись в мокрые от тумана камни, бесконечной стеной уходившие ввысь.
Полезли. Теперь эта задача меня не смущала. Даже сама не заметила, как привыкла лазить по кручам не хуже других. Просто нужно не смотреть вниз и верить своим рукам и ногам — они всегда найдут выступ или трещину.
Наверху было хорошо. Солнце не только высушило, но и немножко нагрело серые морщинистые камни. На них сидела и лежала вся ночная смена и половина утренней.
— Вы чего это загораете? — удивленно спросил Лева.
— Горючего нет, — коротко ответила Любка и снова, по своей всегдашней привычке, принялась грызть травинку.
Женя подбежала к нам:
— Представляете, Гарька вчера еще на базу за горючим уехал — до сих пор ни слуху ни духу! С ним Митя и Зитар, ему сейчас смену заступать. Медведи их, что ли, съели!
— Ну, этих никакой медведь не съест: они спиртного, страсть, не любят, — невесело пошутила Любка.
Тракторист Гарька (полное его имя было Игорь, но он и сам о нем забыл) считался чем-то вроде дежурного негодяя нашего отряда. Всякий раз, как о буровиках писали в газете, Гарька служил журналистам отрицательным фоном, на котором эффектнее выделялись добродетели остальных. Внешне он был мелок, черен и суетлив. Кряжев говорил о нем: «Пустой человек… Так, облизок кошачий».
Сменный мастер Зитар сходился с ним в двух страстях: вине и картах. Про него рассказывали, что он однажды проиграл за вечер четыре своих зарплаты, но ему простили долг. Чем и как он жил, не знали даже его соседи. Он был высок, белобрыс, молчалив. Кажется, он плохо понимал русский язык. А может, притворялся.
Митя в их компанию попал случайно, просто хотел навестить жену, которая жила на базе.
Солнце успело подняться высоко, стало жарко. Туман уходил. Внизу кусками, как на разрезанной картине, стали видны оба станка с поднятыми мачтами, серый фургончик подстанции и второй трактор. Все неподвижное, немое.
Тем временем на сопке собрались; почти все — и нужные, и ненужные.
Трактора все не было. Бригадир Толя Харин нервно посматривал на часы. Кто-то из молодежи захватил с собой мяч, и он лениво перелетал из рук в руки.
Густые кусты стланика на дальнем склоне вдруг зашевелились, и из них вышел Митя. Впереди него, опустив от усталости хвост, бежал Шаман. Он аккуратно провожал всех, кто шел или ехал на базу, наводил там страх на местное собачье племя и возвращался обратно.
— Митя, ты что же один? А трактор где? — раньше всех спросила Женя.
— Сидит, — коротко ответил Митя.
— Где?
— В Черной мари. Намертво.
Митя показал руками, как именно «сидит» трактор, — словно вбил что-то в землю.
— Да кой же дьявол вас занес туда?! — взорвался бригадир. — Ведь и не по дороге совсем!
Митя пожал плечами:
— Пьяному каждая лужа по дороге. Что я с ним сделаю? На базе в магазин вино разливное привезли, ну… сами понимаете. Это же Гарька!
Толя задумался. Таким я его не видала. Считала равнодушным, — безразличным к делу. И ошиблась. Его равнодушие было лишь панцирем, которым многие не слишком сильные люди защищают душу от зла. Сейчас Толя чувствовал себя вожаком, и ему очень хотелось найти хоть какой-то выход!