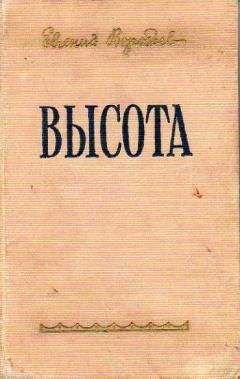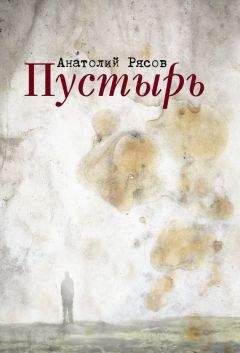— Нет, почему же, — замялась девица, перекладывая портфель под другую руку. — Но эта песня относится к легкой музыке. А для праздничного концерта лучше выбрать что-нибудь посерьезнее. Из классики, например...
— А можно заказать соло для баяна? — спросил Чернега.
— Я нелегкую музыку одобряю, — убедительно соврал Садырин и вытер лицо грязной рукавицей. — А товарищ, — он кивнул на Чернегу, — только блатные песни уважает. Кроме баяна, ничего не слышал. До классики он еще как слушатель не дорос.
— А что вы хотите услышать? — девица достала из портфеля блокнот и повернулась к Садырину.
— Ну, хотя бы этого, как его... — Садырин запустил пятерню в шевелюру. — Листова, а точнее сказать, Листа...
— Какую-нибудь рапсодию?
— Можно и рапсодию.
— Какая вам больше нравится? Вторая? Или, может быть, Десятая?
— Это мне без разницы. Но я больше уважаю ту, которая между ними, посередке!..
— Значит, запишем Четвертую рапсодию...
Садырин отошел, довольный собой, и нехотя отправился на рабочее место. Сегодня он выполнял обязанности стропальщика.
Варежка торопила с подъемом очередной колонны. Садырин набросил петлю на крюк, подал Варежке сигнал «вира!» и разудало просвистел. Но проводить крюк взглядом ему было некогда.
Он очень внимателен ко всему, что не имеет отношения к работе. На этот раз его внимание привлек седоусый, с седыми баками иностранец в пестром пиджаке, а вернее — переводчица, которая его сопровождала.
Гость приехал на черной «Волге», привезли его очкарик-инженер из управления и прораб Рыбасов. У Рыбасова страдальческое выражение лица, будто когда-то при острой боли закусил губу, да так и остался жить с этой гримасой.
На переводчице рискованно короткая юбка и большие темные очки удлиненной формы, которые закрывали почти все лицо.
— Глянь, Антидюринг, вроде щитка у электросварщика, — Кириченков подмигнул.
— Современная дама полусвета, — заметил Маркаров. — И по-моему, она по ошибке надела юбку своей младшей сестры.
Садырин глазел на тугие аппетитные ляжки переводчицы, а Варежка тем временем поднимала колонну на верхнее перекрытие.
В тот момент, когда колонну установили стоймя на балке, петля троса ослабела и выскользнула из крюка.
Варежке стало ясно: накинув петлю, Садырин снебрежничал и не перекрыл зев крюка предохранительной защелкой.
— Елки с дымом! — едва не задохнулась Варежка.
Шестаков, следивший за подъемом, тоже увидел петлю, отъединенную от крюка.
— На честном слове стоит... — с трудом выдохнул Михеич. — А тут еще ветерок, будь он неладен.
— В ту сторону дышать опасно, — добавил Маркаров.
— За такую строповку и под суд можно угодить, — сказал Чернега.
Садырин проводил взглядом девицу в модных очках, сказал Кириченкову по ее адресу какую-то сальность, осклабился, повернулся, поднял голову, увидел колонну, стоящую на балке, увидел петлю, бесполезно повисшую обок колонны, увидел голый крюк и побледнел.
Он засуетился, кинулся к подножью крана, вернулся с полдороги, принялся дрожащими пальцами застегивать брезентовую куртку, потуже затянул монтажный пояс...
И остался на месте.
Михеич не сказал ему ни слова. Положил под язык таблетку валидола, но от волнения разгрыз ее, как леденец, и проглотил.
— Эх ты, — все, что успел сказать Шестаков, пробегая мимо Садырина к крану.
Он стремглав поднялся по лестничкам до будки крановщика и, не заглядывая в нее, полез выше.
Варежка увидела Шестакова у себя над головой.
— Эй, куда ты такой прыткий?
Колонна стояла на узкой балке — петля сама по себе, крюк сам по себе.
Варежка дала аварийный звонок.
Маркаров преградил дорогу монтажникам, которые несли баллон с кислородом и направлялись, ни о чем не подозревая, в опасную зону.
— Понимаешь теперь, что значит «висеть на волоске»? — спросил Маркаров, обращаясь к Чернеге, и распорядился: — Покарауль площадку. Чтобы никто под колонной не гулял. Тем более посланцы капиталистического мира, которые хотят с нами тесно сотрудничать и ищут пути к взаимопониманию. А я на эстакаду, к Погодаеву. Приказ Михеича...
И он, наперекор своему обычному спокойствию и неторопливости, помчался на верхотуру. Пробегая мимо Садырина, вежливо нагрубил:
— Работаешь не прикладая рук... В поте чужого лица.
Еще до того, как раздался аварийный звонок, Галиуллин понял, что в соседней бригаде чрезвычайное происшествие.
Вот так бывает: перехвалят молодого бригадира, а он простой подъем колонны не может обеспечить. Бригадир для некурящих. Пусть теперь расхлебывает, как умеет.
Шестаков добрался до верхней площадки крана.
Он оказался несколько выше театральной афиши «Таня».
При чем здесь «Таня»? И как она очутилась на такой высоте? Неужели вечером подымется занавес и кто-то в театре будет сочувствовать не его сегодняшней беде, а чьему-то выдуманному горю?
На пути Шестакова вздернутая стрела. Колонна поднята на предельную для крана высоту, и потому стрела круто задрана в небо.
Он опасливо полез наверх.
Вот не думал, что стрела такая длинная! Под ногами узкая дырчатая дорожка, за спиной выгнутые стальные обручи, над головой облака, гонимые ветром.
Наконец-то вся стрела позади, добрался до тесной смотровой площадочки на ее конце.
Отсюда под тупым углом к стреле начинается так называемый хобот. Шестаков успешно преодолел место, где стрела и хобот сочленены, как два сустава. Конструкции скреплены между собой раскосами.
К хоботу подвешен полиспаст, от него тянутся вниз два стальных троса, соединенных балкой-траверсой, а ниже траверсы висит могучий крюк.
Галиуллин увидел Шестакова в момент, когда тот перелезал со стрелы на хобот, и уже не спускал с Шестакова глаз, следил за ним с отзывчивым волнением.
Шестаков растерянно постоял на хоботе, держась руками за раскосы. Предстояло спуститься к стальным тросам, к крюку.
Он с сожалением оглянулся на стрелу. Там хоть было какое-то подобие пола под ногами, поручни, выгнутые полукружьями обручи за спиной. И хотя он, когда лез наверх, ни разу не коснулся спиной этой оплетки, она порождала ощущение надежности.
Галиуллин понял, что Шестаков собирается сделать, и мысленно одобрил. Ему понравилось, как тот расторопно залез на хобот и спустился по нему к полиспасту. И уже не раздражение, а сочувствие вызвал у него этот бригадир, которому без году неделя.
Варежка тоже поняла, что Шестаков решил добраться до крюка, дотянуться оттуда до петли и набросить ее на крюк.
— Вот псих ненормальный! — сказала про себя с восторгом.
Она опустила хобот, сократила длину регулирующих тросов, по которым Шестакову предстояло спуститься.
Он прополз мимо полиспаста к крюку. Полиспаст сработал свою скрипучую работу, и длина тросов, идущих к крюку, укоротилась до двух-трех метров...
Поймал ногами трос, а за второй, параллельный, схватился руками в рукавицах.
Спускаться нужно медленно. Стальные тросы вообще скользкие, а эти еще и в смазке.
Крюк, когда не знает иной тяжести, кроме своей собственной, — верток и скользит под ногой так, будто его тоже недавно смазали.
Левой ногой Шестаков осторожно ступил на нижнюю округлость крюка, которую трос обвивает с силой всех тонн, принадлежащих грузу.
Возникло желание — оседлать крюк, посидеть минутку верхом, ухватиться за трос, переждать, пока пройдут головокружение и предательская слабость.
Но черт его знает, сможет ли он подняться на ноги?
Ему предстоит, держась левой рукой за трос, перегнуться вниз и правой дотянуться до петли у верхушки колонны.
Он попытался это проделать. Была бы рука длиннее сантиметров на тридцать — сорок, а так...
Внимательная Варежка быстро дала «чуть майна». Шаткий крюк, подобно изогнутой трапеции, приблизился к петле, ничем не отягощенной, кроме собственного веса.
По-цирковому изогнувшись, Шестаков дотянулся до петли и подтянул ее к себе с неожиданной легкостью.
Галиуллин, сложив рупором руки, кричал Шестакову: немедленно пристегнуться монтажным поясом за нижнюю траверсу!
Шестаков заарканил петлей крюк столь осторожно, что колонна не шелохнулась. А после этого перекрыл зев крюка той самой защелкой, которой пренебрег Садырин.
Шестаков сделал все так, как положено, как учил его Михеич и как сейчас подсказывал Галиуллин.
Однако насколько легче было проделать всю эту операцию десятью минутами раньше на земле, да не повиснув вниз головой, да не одной, а двумя руками!
После того как Шестаков навесил петлю и закрыл защелку, стоять стало еще неудобнее. Но он счастливо ощущал пойманный трос подошвой, как своей кожей.
Надо бы помахать рукой Варежке «чуть вира», но не оторвешься от троса. Он держится за него двумя руками, уже отстегнут карабин монтажного пояса.
А если крикнуть Варежке? Она совсем рядом. Он видит ее косынку в окошке крана, ее встревоженное лицо, ее голубой комбинезон.