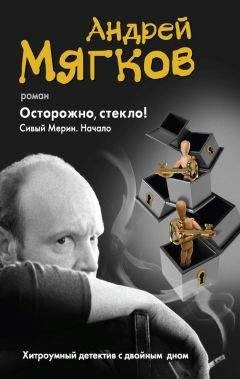— Что долго не приходил к нам?
— Дела, Фимушка! А ты чего это к старику-то ластишься?
Фимка тихо ему шептала:
— Эх ты! не понимаешь ты меня, Аркадий Иваныч!…
И, будто обидевшись, Фимка отходила в сторону, а когда Киселев вскрывал грохот, она, улыбаясь, манила его пальцем.
Штейгер, потоптавшись на одном месте, отходил от грохота:
— Ну, так валяйте, ребята, действуйте, а я отдохну. Устал я…
Он уходил к Фимке, а Скоробогатовы в это время «действовали».
Фимка, увидя, что Аркадий Иванович направляется к ней, уползала за куст и, как будто не ожидая его, задумчиво смотрела в небо, сидя на траве.
— Ты чего это, Фимушка, такая печальная?..
— Так, Аркадий Иванович! Тоскливо что-то. Сядь!
Она, ласково глядя ему в синие очки, указывала
место рядом с собой. Некоторое время они сидели молча.
— Вот я думаю про себя, Аркадий Иваныч! Почему-то мне не нравятся молодые ребята. Не люблю я их!
— Ишь ты! Ну, старичка какого-нибудь займи!
— По душе нету, Аркадий Иваныч. Вот ты мне глянешься, так на меня внимания не обращаешь.
— Фимушка! Что ты говоришь-то?.. Да разве пара я тебе?
— Славный ты! Да разве ты старик? Хы!.. Все бы такие старики были! Глянется мне, как ты на своей скрипке играешь. Так душу вон вытаскиваешь, когда играешь. Ты бы когда-нибудь пришел со скрипкой да поиграл бы…
Фимка прижималась к старику. Обхватив ее талию, Аркадий Иваныч замирал и сидел, глядя в небо стеклами очков. Фимка обвивала крепкими руками шею старичка, прижимала его лицо к своей груди.
— Старый ты человек, а приятный, Аркадий Иваныч!
Киселев лепетал:
— Фимушка… Очки раздавишь, Фимушка…
В один из таких вечеров Фимка, будто сожалея, сказала:
— Только вот толку, должно быть, от тебя не будет!
Киселев, уязвленный, возразил:
— А ты почем знаешь?
— Да по всему видать!..
— А если есть?..
— Так что не берешь меня?..
Киселев задрожал, вскочил:
— Пойдем… Пойдем…
…Лес, обласканный вечерним заходящим солнцем, недвижно стоял под голубым колпаком безоблачного неба. Вверху посвистывали зяблики, и посвист их четко разносился по лесу.
Аркадий Иваныч, притихший, сидел на кочке, а Фимка, округлив ястребиные глаза, насмешливо смотрела на старика:
— Ну, что же ты?
Аркадий Иваныч, грустно тряхнув головой, чуть слышно проговорил.
— Уйди, Фима!..
— Уйти?
— Ступай…
— Душа-то, верно, радеет, да тело не владеет…
— Старость, Фимушка!
Из-под синих стекол по впалым щекам текли слезы. Девушка, тихо скользя меж кустов, ушла.
Все это видела Наталья. Она не любила Фимку, и та относилась к ней как к заклятому врагу.
Остановив Фимку, Наталья сказала:
— Не стыдно тебе над стариком галиться[5], — потешаться?!.
— А тебе какое дело?.. Тоже нашлась наставница!..
— Нехорошо, девица!..
— Ты с Макаркой крутишь, я тебе не запрещаю.
— Эх ты, бессовестный человек!
Наталья пошла к Аркадию Ивановичу. Он попрежнему сидел на кочке, грустный, согнутый, подавленный. Она подошла к нему и, сев рядом, спросила:
— Что это ты, Аркадий Иваныч?..
— Да, так… Взгрустнулось что-то!..
— Слушай-ка, не позорь ты свою седую голову, гони ты эту лахудру от себя… Бедко[6] мне, как она смеется над тобой.
Киселев молча слушал.
— Добрый ты человек, а со злым человеком водишься — с Фимкой. Фальшивая она. Ты думаешь, она любя с тобой говорит?.. Яков Елизарыч ее к тебе подсылает, чтобы увести от станков, а они там без тебя, что хотят, то и делают.
— Знаю я, Наташа!
— Ну, а знаешь, так зачем так делаешь?..
— Дурак я старый!..
— Фимка с тобой ласковая, а на людях тебя всяко обзывает: и беспрокий, и старый гриб, и обабок рухлявый.
— Спасибо тебе, Наташа, — подняв очки на лоб и утирая слезы, проговорил Аркадий Иваныч, — только ты там не говори, что я реву… Слабенький я стал… Размяк… И верно, что старый обабок рухлявый. Все ведь мы думаем, что до самой смерти все крепки да молоды, потому душа-то, Наташенька, она не носится, не старится… Славная ты — добрая девушка… Одна ты здесь такая, как звездочка горишь… Вот ведь и одна ты со мной в лесу сидишь, а нет у меня к тебе поганых помыслов. Даже обидно иной раз сделается, когда подумаешь насчет тебя что-нибудь такое, этакое. Идти надо… Кончили, поди, там… Довели…
— Знамо дело, довели. Как им надо, так и довели.
— Знаю я… Уйду скоро от вас… Исаика Ахезин к вам будет ездить. Этого коршуна не проведешь, а я… Ну, да наплевать!..
Уходя из леса, он твердо решил, что больше не подойдет к Фимке.
С людьми он был ласков и тих. И люди его любили. Любили его и за игру на скрипке.
— Один я, как перст, — говорил он под хмельком, — Людей много, а я один.
И, взяв скрипку, начинал играть. Играл он с душой. Водил смычком по струнам, не видя и не слыша ничего вокруг себя.
— Музыка — разговор души моей, — говорил он. — Я думаю, а скрипица моя вам рассказывает, о чем я думаю. Только не понять вам слов моей скрипки… Понятны они только мне.
Очень часто Аркадий Иваныч, играя на скрипке, напевал потухшим голосом:
Соловьем залетным юность пролетела,
В бурю-непогоду радость прошумела.
Золотое время было да сокрылось,
Сила молодая с телом износилась.
Жизнь на прииске разгоралась. Скоробогатовы большую половину платины сдавали частному скупщику — Трегубову.
Часто на прииске бывали кутежи.
— Угостить надо рабочих, а то вяло робят, — говорил Макар.
Яков скрепя сердце соглашался.
Лесные трущобы вздрагивали, разбуженные песнями, посвистом и хриплым ревом гурькиной гармошки.
Ефимка, — вихрастый, сероглазый, широконосый мальчуган, — мчался верхом на взмыленной лошади на ближайший казенный прииск Глубокий за водкой.
Подшмыгнув широкой ноздрей, он, как мяч, вскакивал на шустрого Рыжку и точно прирастал к хребту лошади. Исаия с острой усмешкой замечал:
— Шустрый парнишка-то.
— Бесенок, — подтверждал Яков, — пошлешь за чертенком, принесет сатану.
Не любил Макар, когда на эти пирушки являлся Ахезин. Проходя мимо, он нехотя кивал непрошенному гостю, а Исаия, как бы не замечая его недовольства, ласковенько спрашивал:
— Что это ты, Макар Яковлич, какой сегодня?
— Какой?
— Да во грустях, будто?
— Какой есть — весь тут!
Исаия нацеливался колючими глазами на Макара. А когда Макар залпом опоражнивал чайный стакан водки, он, прищурив глазки, укоризненно замечал, качая головой:
— Ладно, как ты винишко-то хлобыщешь!..
— Свое пью, не чужое!
Как-то раз старший Скоробогатов, принарядившись в новую кумачевую рубаху и в синюю поддевку, распорядился:
— Ефимка! Седлай Рыжку и марш на Глубокий. Зажигайте костры!
Он улыбался, был покладист и словоохотлив.
Высокий, черный, жилистый забойщик Смолин возился у костров. Тихо посмеиваясь себе в ус, он провожал заспанного Сурикова в ночной дозор.
— На скольком номере будешь спать?..
— На четыреста пятьсот, — беззлобно отвечал Суриков.
— Приду.
— Приходи, если с бабой дома простился.
Суриков, облизывая огромные усы, завистливо посмотрел в телегу с «угощением» и, захватив березовую балодку, ушел.
День угасал. Из котловины потянуло сырой прохладой. Где-то трещали и попискивали дрозды. Костры разгорались ярче, люди сходились к этим кострам. С неба глядели редкие звезды, а земля точно опускалась ниже и ниже, как бы тонула в глубокой яме, наполненной тьмой и знобящей прохладой августовской уральской ночи. У Холодного был слышен стук — это балодкой постукивал Суриков.
С горы донеслась песня. Девичьи голоса плыли из потемневшего леса. Голос Натальи серебряной нитью резал густую волну песни, отдавался эхом в горах:
— За-а-при-иметьте-ка да вы, ребя-а-та, мо-ою го-олубу-у-у-шку.
Обнявшись, пестрой гурьбой подошли работницы. Впереди, щеголевато набросив на белые вихры широковерхий отцветший картуз, шагал Гурька с гармошкой. Он прифрантился. Красная рубаха с вышитыми на вороте и приполке петушками была собрана густыми складками назади, а вытертые плисовые шаровары болтались кошелями, свисая через голенища сапог.
Костры запылали еще веселей. В подвешенных над ними больших черных чайниках закипал чай.
Прискакал Ефимка. Он комом слетел с лошади и, запыхавшись, сообщил, раздувая ноздри:
— Медведя видел…
— Врешь ты, курносый, — проворчал Смолин.
— Пра-и-богу, видел. Вот тут около речки Каменки. Как рявкнет!.. А я… Как я Рыжку наряжу!..
— Испугался?
— Чего бает? Испугался! — хвастливо блеснул серыми глазами Ефимка.
— Большой? — пряча в кучерявую бороду усмешку, спросил Смолин.