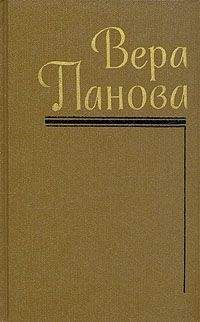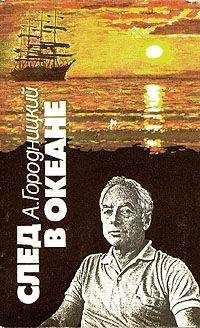— Здравствуй! — сказали обе и протянули теплые руки.
Такие свежие они были и оживленные — Севастьянов вдруг обрадовался им, как сестрам.
— Почему вас удивляет, что я цел и невредим?
— Мы думали, тебя бандиты подстрелили, — сказала большая.
— Мы были уверены, что ты весь продырявлен пулями, — сказала маленькая.
— Такими ты расписал красками.
— Да уж, знаешь! У тебя там столько стреляют — просто удивительно, что кто-то оттуда ушел живым.
Глаза у Зойки маленькой сияли и смеялись.
— А где же Сема? — спросила она. — Мы, собственно, зашли его навестить.
Она положила на стол кулек с апельсинами.
— Он в клубе, наверно, — сказал Севастьянов. — Он уже на работу ходит.
Он не понял ничего. Честно поверил, что они пришли проведать больного Семку, а он, Севастьянов, лицо в данном случае второстепенное и неважное, случайно оказался дома и подвернулся под их шуточки.
«И знаешь: я не виню себя, что верил честно; таков я был тогдашний и не могу себя в этом винить. Что ты мне сказала, то я и принимал на все сто процентов; к Семке — значит к Семке, какое могло быть сомнение. Мужской самоуверенности во мне ни капли не было; и хоть жизнь с детства, случалось, била без жалости и тыкала во что угодно, но душой я был доверчив; очень! Откуда было взять мне столько самоуверенности и самодовольства, чтобы подумать, что ко мне ты бежала в женской тревоге, бежала увериться собственными глазами, что я жив-здоров, не ранен, не поцарапан? Подумать, что мною зажжено и ко мне обращено твое сияние?.. Как мне, маленькая, осудить себя за доверчивость? За то, что видел в твоих словах только один смысл, а второго смысла не искал? Таким я был и, значит, иным быть не мог, не с чего было мне быть иным…»
Зоя большая улыбалась, глядя на них, сидела и улыбалась ласково и весело, она стала прямо-таки неправдоподобно красивой. Севастьянов сказал невольно:
— Ты ужасно красивая стала.
— Да, — подтвердила Зойка маленькая и посмотрела на подругу долгим взглядом, — она невозможно красивая. Ей трудно жить, до того она красивая.
— Глупости, — сказала большая Зоя. — Почему трудно, наоборот… Знаешь, Шура, я буду учиться в балетной группе.
— Ее принимают за красоту, — грустно сказала маленькая.
— Да, — беспечно сказала большая, — у меня нет способностей. Не понимаю почему, ведь вальс, например, я танцую неплохо, и походка у меня легкая, правда? А они говорят — нет способностей. Но все равно принимают. А ты говоришь — с красотой трудно жить.
Она вытянула ноги и поиграла кончиками туфель. Длинные ноги в туго натянутых черных чулках…
…Длинные голые ноги в балетных розовых туфлях. Ленты развязались на туфле. Зоя большая сидит на полу и, вытянув длинные голые руки, завязывает ленты. Она аккуратно скрещивает их на щиколотке и продевает в петельку, и по ее сосредоточенному блестящему взгляду и приоткрытым губам видно, до чего ей нравятся эти розовые туфли с лентами, как она ими восхищена и занята.
Ее темные кудри убраны в сетку, вместо платья на ней балетная пачка, накрахмаленная коротенькая пачка из белой марли. На голой нежной спине цепочкой проступают позвонки.
— Я буду танцевать характерные, — говорит она Зойке маленькой и Севастьянову, стоящим над нею.
Это происходит в клубе совторгслужащих. Пол, на котором сидит Зоя, завязывая ленты на туфельке, — не просто пол, а серый пустынный настил театральной сцены. Горит висячая лампа в колпаке из жести, конус ее света устремлен на них троих. В квадратном окошечке в глубине сцены, под потолком, мутно голубеет дневной свет. Там, под потолком, путаница деревянных перекладин, канатов и блоков, внизу — плоская серая гулкая пустыня, а занавес поднят, и пустой темный зрительный зал смотрит на сцену, отсвечивая в темноте лакированными спинками стульев.
Как Севастьянов там очутился? Кажется, Зойка маленькая его привела. Кажется, большая Зоя зазвала их — покрасоваться перед ними в новых одежках и новой увлекательной обстановке. С этой сцены она собиралась показывать себя, чтобы оттуда, из зала, на нее смотрела тысяча глаз.
Зойка маленькая сказала, поеживаясь, — было знобко даже в пальто:
— Ужасно неуютно!
Даже в пальто было холодно, а Зоя большая сидела у их ног в пачке, полуобнаженная.
— Неужели тебе нравится? — строго и огорченно спросила у нее маленькая.
Большая покончила с завязками и поднялась, легкая, во весь рост. Бесшумным шагом шла она рядом с Севастьяновым и Зойкой маленькой, показывая им сцену, артистические уборные, задние комнаты клуба, закрытые для публики. С ребячьим простодушием она хвастала тем, что она тут свой человек, не посторонняя. Ее брат служил здесь завхозом, он помог ей устроиться в балетную группу, не так-то просто было туда попасть. Это был самый богатый клуб в городе, бывший театр «Буфф».
Они всходили по отвесным лесенкам, заглядывали в люки, приостанавливались перед развешанными полотнищами и реквизитом, на мгновение заинтересованные то макетом бронемашины, то декорацией, изображавшей средневековый замок, то настоящей, вышитой темным серебром церковной хоругвью, попавшей сюда из какой-нибудь закрытой церкви.
Потом большая Зоя приоткрыла перед ними дверь в комнату, где десяток белых пачек и два десятка розовых туфель под звуки рояля делали одинаковые движения и молодцеватый голос считал: «…и раз, и два, и три, и…» Потом Зоя сказала, что ей тоже надо идти заниматься. Она стояла на площадке, пока Севастьянов и Зойка маленькая спускались по белой лестнице в вестибюль. Сумерки надвинулись, окно на площадке было как синькой подсиненное. Севастьянову вспомнилось, как она стояла на другой площадке, у другого окна, черного от грязи, какое у нее было узкое детское пальтишко и кроткие встревоженные глаза и как он поднял ее платочек…
Он вышел с Зойкой маленькой из клуба и наткнулся на Спирьку Савчука, тот стоял у самой двери, читая афишу.
— Здоров! — дружески сказал Севастьянов. Но Спирька сделал вид, будто не видит их, повернулся к ним спиной и пошел прочь.
— Не трогай его, — сказала Зойка маленькая. — Он сходит с ума от ревности.
— К кому?
— Ко всему миру и к нам с тобой в том числе.
— Почему к нам с тобой?
— Ты же знаешь, как он относится к Зое.
— Ну да; но при чем тут мы с тобой?
— Он ведь понимает, что мы идем от Зои.
— Так что ж такого?
— Ровно ничего; но он ненормальный.
Они поговорили о ревности и осудили это собственническое чувство, унижающее человека.
— Чудовище с зелеными глазами, — сказала образованная Зойка.
— Буржуазная отрыжка, — сказал Севастьянов.
Впрочем, они дружно пожалели беднягу Спирьку, прикованного в сумерках к клубной афише. Их изумляло, что этот самолюбивый задиристый парень, левак и драчун, в любви оказался таким слабым и отсталым, таким — до огорчения — мещанином. Вместо того чтобы гордо отойти раз и навсегда, он отрывался от большой Зои и опять возвращался, грыз ее, ссорился с ней, мирился и умолял идти с ним в загс. Он не просто добивался взаимности, ему загс непременно понадобился, ему требовался законный брак.
Ревность ли была тому причиной или что другое, но ужасно высокомерно стал держаться Савчук с ребятами из прежней своей компании. Они теперь с ним встречались редко; но каждому в эти встречи он норовил сказать что-нибудь неприятное — с удовольствием говорил, со злобой.
Леньке Эгерштрому он сказал, что рабочие посадочной мастерской, собственно говоря, не пролетариат, а кустари, собранные под одной крышей, у них и мироощущение индивидуалистическое, и образ жизни обывательский. Ленька Эгерштром, комсомолец, у которого старший брат был коммунист, обиделся насмерть.
Семка Городницкий старательно делал свое дело, он боролся со скаутизмом. Многие пионервожатые в недавнем прошлом были скаутами, и они протаскивали скаутские методы в работу, а Семка Городницкий, как инструктор губбюро ЮП, с этим боролся. Он не знал, как надо работать, — пионерская организация была только что создана; вряд ли сам он сумел бы руководить отрядом, если бы ему это поручили; но как не надо работать — это он своей комсомольской головой понимал и, когда был здоров, не щадя себя мотался по пионерским сборам, выискивая, не пахнет ли где вредным скаутским духом. И это его рвение Савчук тоже обхамил, сказав, что Семке из самого себя еще надо вытравить классово-подозрительные вкусы и привычки, прежде чем учить других революционной линии поведения. Семка побледнел и не нашелся что ответить, а Спирька смотрел на него с жесткой усмешкой на желтом желчном лице малярика.
С гвоздильного завода Спирька ушел и работал на плужном, где секретарем комсомольской ячейки был Ванька Яковенко. Они сблизились: раздражительный непримиримый Савчук и аккуратный, выдержанный, дисциплинированный Яковенко. Что они нашли друг в друге общего?