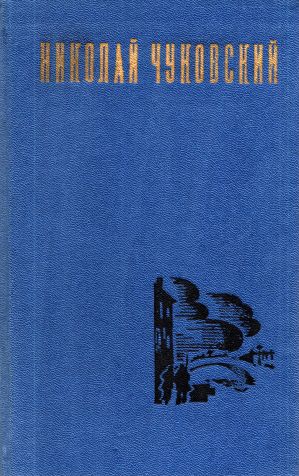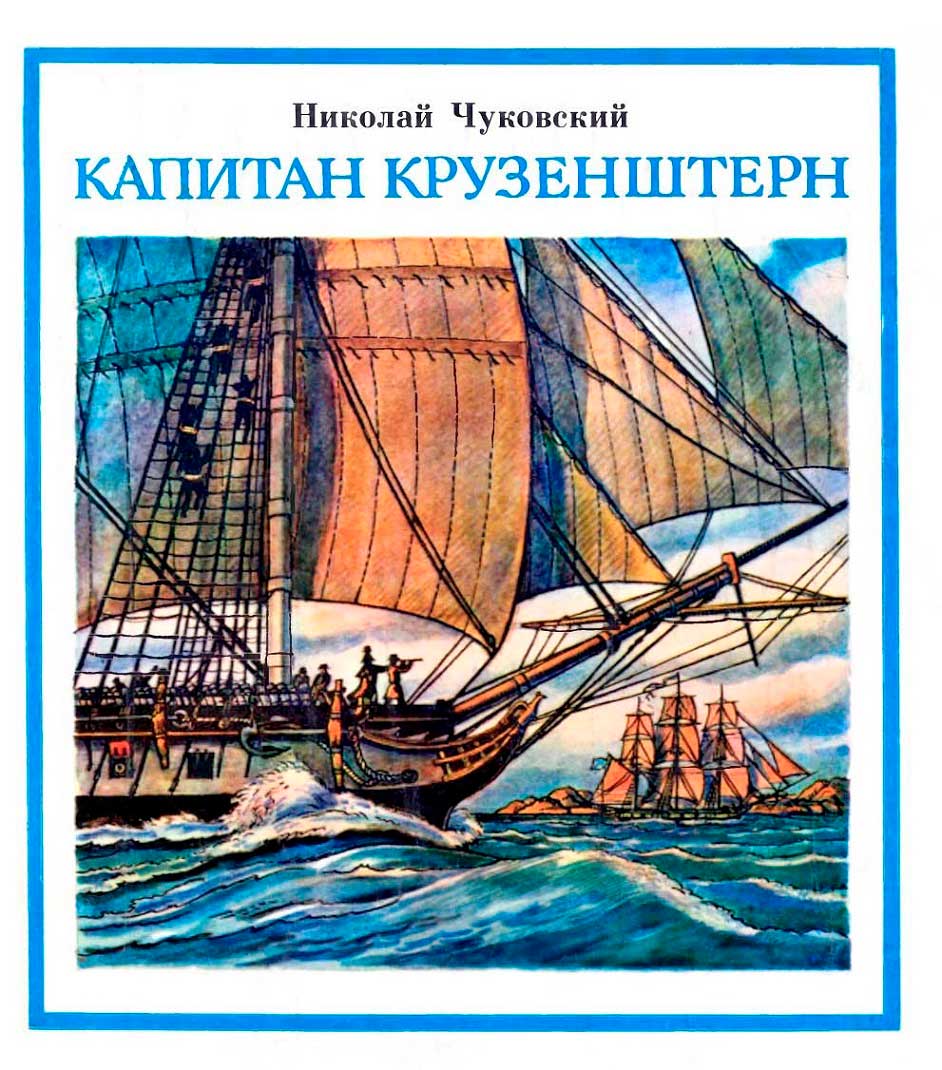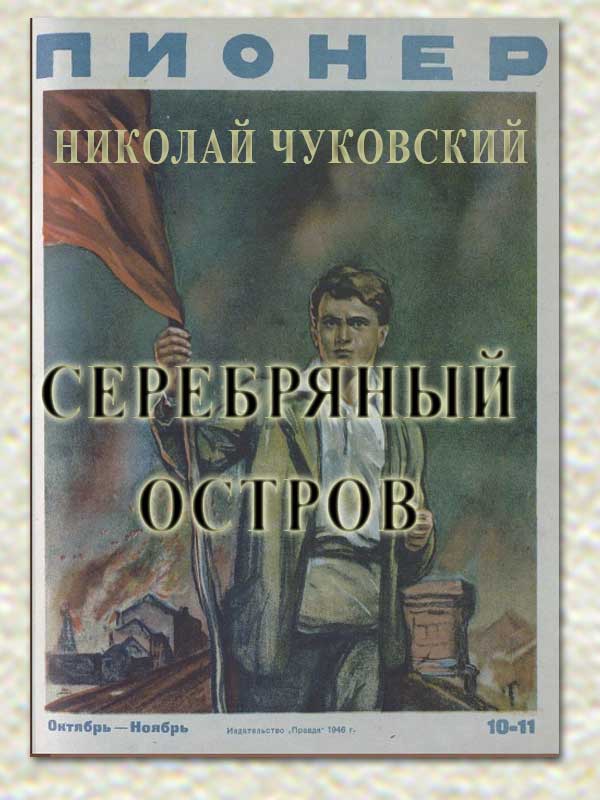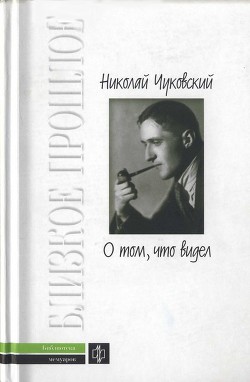чтобы больше здесь не воняло!
И меня потащили. Меня волокли по паркету к дверям, на лестницу.
Я упирался, вертелся, крутился, старался вырваться. Но меня волокли и били, били и волокли. Я уцепился за дверной косяк, и, чтобы оторвать, меня били ногами по рукам. Я хватался за перекладины перил, но меня отдергивали и швыряли все вниз и вниз по ступенькам. Толпа вокруг все увеличивалась, прибегали мальчики из других классов, маленькие и большие, свалка росла. На верхних ступеньках надо мной прыгал и кривлялся Виля Кнатц с моей фуражкой в руках. Он порол ее и уничтожал, и гнилая парусина рвалась на части с громким треском. Упираясь и переворачиваясь, я на мгновение увидел среди окружавших меня и Сашу Рошфора. Он не бил меня, но с напряженным вниманием следил, как меня избивают. Заметив мой взгляд, он отвернулся.
Когда я был уже в самом низу лестницы, сверху по ступеням сбежал заведующий школой, называвшийся до революции директором, Василий Васильевич Серениус. Это был плотный волосатый мужчина с рыжей бородой, стоявшей торчком, с очень белыми вставными зубами, в длинном черном сюртуке; крахмальный воротник подпирал ему щеки, крахмальные манжеты сползали на заросшие рыжим волосом пальцы; размахивающий длинными руками, он был похож на орангутанга, разодетого для циркового представления.
— Оставьте! — кричал он еще сверху, стуча башмаками по ступенькам. — Что вы делаете! Вы подводите школу! Неужели вы не понимаете, что еще рано?
Перед ним расступились, и меня перестали бить. Я лежал, а он боком прошел мимо, вниз по лестнице, брезгливо сторонясь и стараясь не задеть меня ногой.
— Звонок! — закричал он швейцару Пете. — Давай звонок!
И так как Петя был недостаточно проворен, он сам схватил волосатой рукой наш большой медный звонок, поднял его над головою и затрезвонил вовсю.
И под оглушительный этот трезвон чьи-то руки подхватили меня, вытащили за школьную дверь и бросили на мокрый булыжник двора.
Я лежал один и даже не пытался подняться, и дождь брызгал мне в лицо. Сколько времени я так провалялся, не знаю. Мне казалось, долго.
Вдруг кто-то нагнулся надо мной. И спросил:
— Ты можешь сесть?
Это был ученик старшего класса Алеша Воскобойников — длинный, очень длинный мальчик с узкими плечами, с маленькой головой, белобрысый, с крупным носом и умными глазами. Его называли «штатив» — за то, что он так быстро рос, словно раздвигался. Он очень хорошо учился и в своем классе шел всегда одним из первых. Я мало знал его, как и всех учеников старшего класса.
Он тянул меня за руку. Я сел.
— А встать можешь?
Оказалось, я мог и встать.
Рядом с Воскобойниковым стоял его товарищ по классу Гриша Смуров, коротенький, крепкий, черноволосый, с большой курчавой головой.
— Где у тебя болит? — спросил меня Смуров.
Я весь был в ссадинах, мне было больно всюду, и я ничего не мог ответить.
— Возьмем его с собой, — сказал Воскобойников. — Пойдешь с нами?
— Если он может идти, — сказал Смуров.
Я пошел за ними. Я не знал, куда они идут, и мне было все равно. Но оставаться одному мне не хотелось.
Воскобойников и Смуров провели меня на задний двор, и по железной наружной лестнице мы поднялись в висячую остекленную галерею, называвшуюся по старой памяти оранжереей. До революции здесь действительно стояли кадки с разными южными растениями, которые должны были знакомить учащихся с природой теплых стран. Но прошлой зимой в городе не хватало топлива, растения погибли от мороза, и кто-то порубил их на дрова. Деревянные кадки тоже были сожжены, и теперь сквозь выбитые стекла в оранжерею брызгал дождик и мочил растоптанные пальмовые листья на бетонном полу.
В оранжерее нас ждал уже тоненький, хилый мальчик Вася Наседкин, тоже товарищ Воскобойникова по классу. Он сидел на круглом бетонном баке, в котором прежде разводили лягушек для демонстрации разных опытов на уроках зоологии. Теперь и лягушек давно не было, и только на дне бака плескалась мутная вода.
Вася Наседкин поднял на нас глаза, сиявшие за толстыми стеклами круглых очков. Он был слаб зрением и носил такие сильные очки, что глаза за ними казались неестественно большими, словно нарисованными.
— Что с твоим лицом? — спросил Наседкин, взглянув на меня. — Ты весь распух!
— Пустяки, — сказал Воскобойников. — Его избили за то, что он пришел с красной звездочкой. Избили и вышвырнули из школы. Мы нашли его на дворе.
— Он пойдет с нами?
— Не знаю, — ответил Воскобойников.
Воздух вздрогнул от особенно громкого орудийного выстрела, и Смуров поднял голову.
— Где это? — спросил он.
— На Пулковской горе, — сказал Воскобойников. — Где мы на лыжах катались. Где обсерватория. Сейчас они ближе всего к городу под Пулковом.
Перескакивая с одного на другое, они втроем бегло переговаривались о положении на фронте и в городе. Меня они в разговор не вовлекали, так как, видимо, думали, что я после случившегося соображать не в состоянии. А я между тем мало-помалу приходил в себя.
Вслушиваясь в их слова, я постепенно с удивлением стал кое о чем догадываться.
— Куда это вы собираетесь? — спросил я.
— В отряд, — ответил Смуров.
— В какой?
— В комсомольский.
— А вы разве комсомольцы?
— Мы комсомольцы, — сказал Воскобойников. — Ячейка.
— Вот Алеша — наш организатор, — объяснил Смуров.
— Когда ж это вы?
— Мы давно решили, — сказал Воскобойников. — Но связаться с комсомолом долго не умели. В прошлый четверг вступили.
Сейчас, спустя столько десятилетий, кажется странным и неправдоподобным, что в Петрограде через два года после Октябрьской революции существовала комсомольская ячейка, которую с полным основанием можно было бы назвать подпольной. А между тем такая ячейка была у нас в школе. В годы гражданской войны страна была разделена не только фронтами, раздел проходил всюду, и в дни наступления Юденича подростку в центральной части города опасно было громко сказать: «Я — комсомолец».
Синяки мои наливались кровью, и только теперь я по-настоящему почувствовал, как мне больно.
— Я тоже пойду с вами, — сказал я. — В отряд.
— А его возьмут? — спросил Смуров у Воскобойникова. — Сколько тебе лет? — повернулся он ко мне.
— Скоро шестнадцать, — сказал я.
— Наседкину тоже еще нет шестнадцати, — сказал Смуров.
— Поговорим с комиссаром, — сказал Воскобойников. — Возьмут.
Когда я думаю об отряде, я прежде всего вспоминаю упоительный рыбный запах, который шел от супа, разлитого по нашим котелкам. В нем попадались соломинки, которые можно было обсасывать. Заедали мы его восхитительным хлебом — полфунта в день, — мягким, с поджаристой корочкой, с вкрапленными в мякиш желтыми зернышками