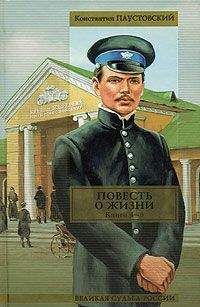первый же проходной двор.
На призывном пункте пришлось стоять в очереди. Коменданты домов с толстыми домовыми книгами суетились около мобилизованных. Вид у комендантов был виноватый и заискивающий. Они усиленно угощали мобилизованных папиросами, просто навязывали им папиросы и поддакивали всем их разговорам, но ни на миг не отходили от своих подопечных.
В глубине комнаты, вонявшей кухней, сидел за столом гетманский офицер с желто-голубыми погонами. Он тряс под столом ногой.
Передо мной стоял небритый хилый юноша в очках. Он ждал понуро и молча. Когда очередь дошла до него, то на вопрос офицера о профессии он ответил:
— Я гидрограф.
— Граф? — переспросил офицер, откинулся на стуле и с нескрываемым удовольствием посмотрел на юношу. — Редкая птица! Были у меня дворяне и даже бароны, но графов еще не было.
— Я не граф, а гидрограф.
— Молчать! — спокойно сказал офицер. — Все мы графы. Знаем мы этих графов и этих гидрографов. За глупые разговоры вы у меня попотеете в хозяйственной команде.
Юноша только пожал плечами.
— Следующий!
Следующим был я.
Я показал офицеру свои документы и твердо сказал, что я, как гражданин Российской Советской Федерации, призыву в гетманскую армию не подлежу.
— Какой сюрприз! — сказал офицер и, гримасничая, поднял брови. — Я просто очарован вашими словами. Если бы я знал, что вы соблаговолите явиться, то вызвал бы военный оркестр.
— Ваши шуточки не имеют отношения к делу.
— А что имеет? — зловеще спросил офицер и встал. — Может быть, вот это?
Он сложил кукиш и поднес его к моему лицу.
— Дулю! — сказал он. — Дулю с маком стоит ваше советско-еврейское подданство. Мне начхать на него с высокого дерева.
— Вы не смеете так говорить! — сказал я, стараясь быть спокойным.
— Каждый тычет мне в глаза это «не смеете», — грустно заметил офицер и сел. — Хватит! Из уважения к вашему липовому подданству я назначаю вас в сердюцкий полк. В гвардию самого пана гетмана. Благодарите бога. Документы останутся у меня. Следующий!
Во время этого разговора с гетманским офицером пан Ктуренда исчез. Нас, мобилизованных, повели под конвоем в казармы на Демиевке.
Вся эта комедия, подкрепленная солдатскими штыками, была так нелепа и неправдоподобна, что горечь от нее я впервые ощутил только в холодной казарме. Я сел на пыльный подоконник, закурил и задумался. Я готов был принять любую опасность, тяжесть, но не этот балаган с гетманской армией. Я решил осмотреться и поскорее бежать.
Но балаган оказался кровавым. В тот же вечер были застрелены часовыми два парня из Предмостной слободки за то, что они вышли за ворота и не сразу остановились на окрик.
Голос канонады крепчал. Это обстоятельство успокаивало тех, кто еще не потерял способности волноваться. Канонада предвещала неизвестно какую, но близкую перемену. Лозунг «Хай гирше, та инше» был в то время, пожалуй, самым популярным в Киеве.
Большинство мобилизованных состояло из «моторных хлопцев». Так называли в городе хулиганов и воров с отчаянных окраин — Соломенки и Шулявки.
То были отпетые и оголтелые парни. Они охотно шли в гетманскую армию. Было ясно, что она дотягивает последние дни, и «моторные хлопцы» лучше всех знали, что в предстоящей заварухе можно будет не возвращать оружия, свободно пограбить и погреть руки. Поэтому «моторные хлопцы» старались пока что не вызывать подозрений у начальства и, насколько могли, изображали старательных гетманских солдат.
Полк назывался «Сердюцкий его светлости ясновельможного пана гетмана Павло Скоропадского полк».
Я попал в роту, которой командовал бывший русский летчик — «пан сотник». Он не знал ни слова по-украински, кроме нескольких команд, да и те отдавал неуверенным голосом. Прежде чем скомандовать «праворуч» («направо») или «ливоруч» («налево»), он на несколько мгновений задумывался, припоминая команду, боясь ошибиться и спутать строй. Он с открытой неприязнью относился к гетманской армии. Иногда он, глядя на нас, покачивал головой и говорил:
— Ну и армия ланцепупского шаха! Сброд, шпана и хлюпики!
Несколько дней он небрежно обучал нас строю, обращению с винтовкой и ручными гранатами. Потом нас одели в зелено-табачные шинели и кепи с украинским гербом, в старые бутсы и обмотки и вывели на парад на Крещатик, пообещав на следующий же день после парада отправить на петлюровский фронт.
Мы вместе с другими немногочисленными войсками проходили по Крещатику мимо здания городской думы, где еще мальчишкой я попал под обстрел. Все так же на шпиле над круглым зданием думы балансировал на одной ноге золоченый архистратиг Михаил.
Около думы верхом на гнедом английском коне стоял гетман в белой черкеске и маленькой мятой папахе. В опущенной руке он держал стек.
Позади гетмана застыли, как монументы, на черных чугунных конях немецкие генералы в касках с золочеными шишаками. Почти у всех немцев поблескивали в глазах монокли. На тротуарах собрались жидкие толпы любопытных киевлян.
Части проходили и нестройно кричали гетману «слава!». В ответ он только подносил стек к папахе и слегка горячил коня.
Наш полк решил поразить гетмана. Как только мы поравнялись с ним, весь полк грянул лихую песню:
Милый наш, милый наш, Гетман наш босяцкий, Гетман наш босяцкий — Павле Скоропадский!
«Моторные хлопцы» пели особенно лихо — с присвистом и безнадежным залихватским возгласом «эх!» в начале каждого куплета:
Эх, милый наш, милый наш Гетман Скоропадский, Гетман Скоропадский, Атаман босяцкий.
«Хлопцы» были обозлены тем, что нас так скоро отправляют на фронт, и вышли из повиновения.
Скоропадский не дрогнул. Он так же спокойно поднял стек к папахе, усмехнулся, как будто услышал милую шутку, и оглянулся на немецких генералов. Их монокли насмешливо блеснули, и только по этому можно было судить, что немцы, пожалуй, кое-что поняли из слов этой песни. А толпы киевлян на тротуарах приглушенно шумели от восхищения.
Нас подняли еще в темноте. На востоке мутно наливалась ненужная заря. В насупленном этом утре, в керосиновом чаду казармы, жидком чае, пахнувшем селедкой, в вылинявших от тихого отчаяния глазах «пана сотника» и мокрых холодных бутсах, никак не налезавших на ноги, была такая непроходимая и бессмысленная тоска, такой великий и опустошающий сердце неуют, что я решил непременно сегодня же бежать из «Сердюцкого его светлости ясновельможного пана гетмана полка».
На поверке оказалось, что двенадцати человек уже не хватает. Летчик безнадежно махнул рукой