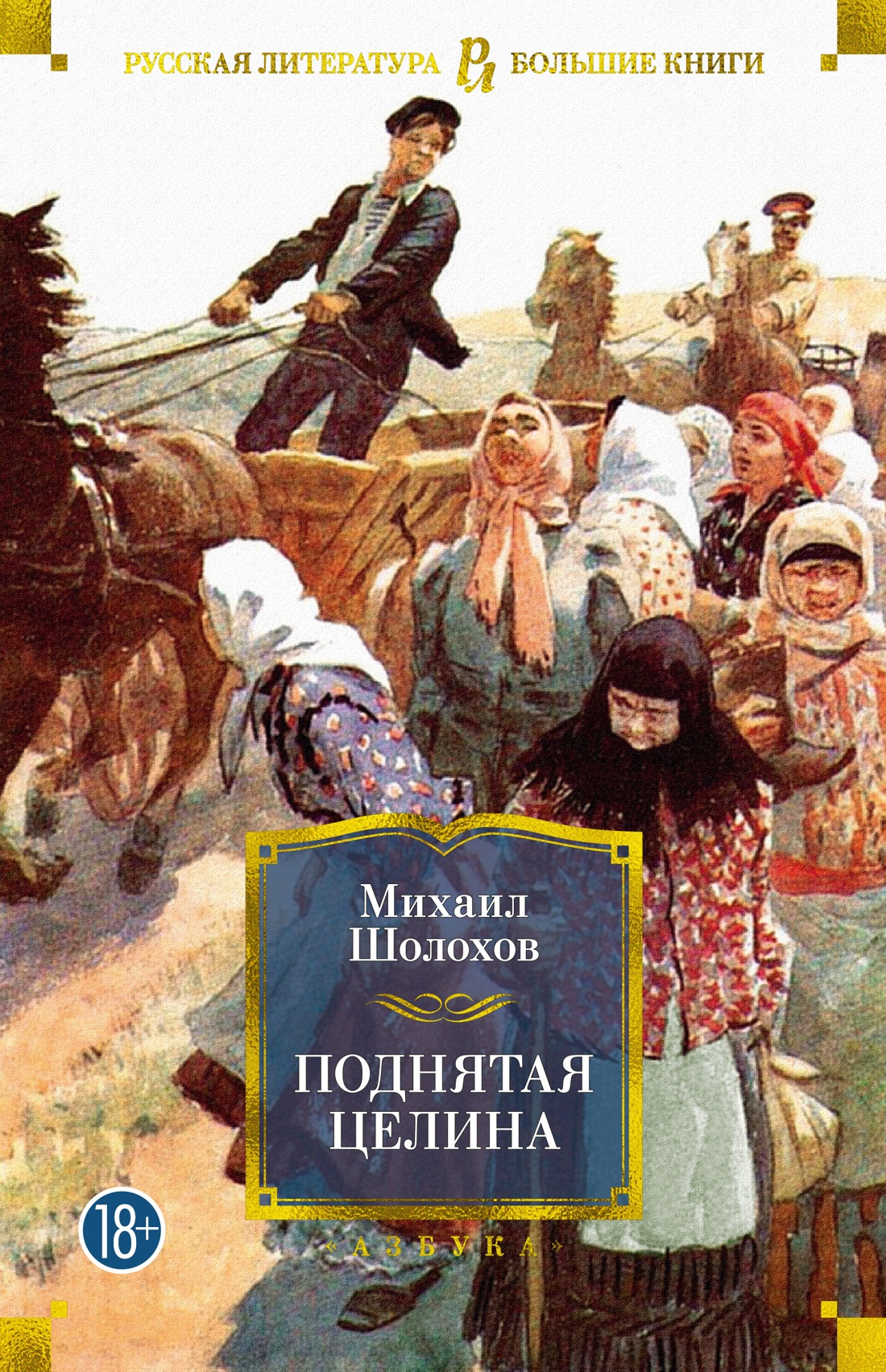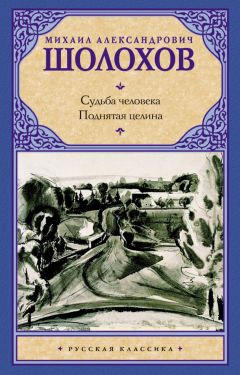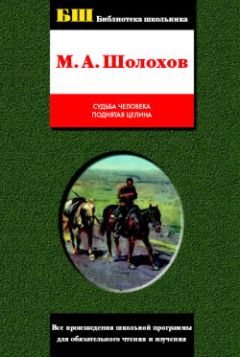поднял выгоревшие на солнце брови:
— Каких кошек?
— Всяких. И рябых, и черных, и полосатых. Какая на глаза попадется, такая и моя.
У Давыдова задрожала верхняя губа — первый признак того, что он изо всех сил борется с подступающим взрывом неудержимого хохота. Зная это, Размётнов нахмурился, предупреждающе и испуганно вытянул руку.
— Ты погоди смеяться, матросик! Ты сначала разузнай, в чем дело.
— А в чем? — страдальчески морщась и чуть не плача от смеха, спросил Давыдов. — Наверное, недовыполнение плана по линии Заготживсырья? Медленно идет сдача шкурок пушного зверя, и ты… и ты включился? Ох, Андрей! Ой, не могу… признавайся же скорей, не то я умру тут же, за столом у тебя…
Давыдов уронил голову на руки, на спине его ходуном заходили широкие лопатки. И тут Размётнов вскочил, будто осою ужаленный, выкрикнул:
— Дура! Дура городская! Голуби у меня выводят, скоро голубятки проклюнутся, а ты — «Заготживсырье, в пушной план включился»… Да на черта мне вся эта лавочка — шерсть, копыта — нужна? Голуби у меня поселились на жительство, вот я их и оберегаю, как надо. Вот теперича ты и смеись, сколько твоей душеньке влезет.
Готовый к новым насмешкам, Размётнов не ожидал того впечатления, какое произвели на Давыдова его слова, а тот наспех вытер мокрые от слез глаза, с живостью спросил:
— Какие голуби? Откуда они у тебя?
— Какие голуби, какие кошки, откуда они… Чума тебя знает, Сема, к чему ты нынче разные дурацкие вопросы задаешь мне? — возмутился Размётнов. — Ну, обыкновенные голуби, об двух ногах, об двух крылах и каждый — при одной голове, а с другого конца у каждого по хвосту, у обоих одежда из пера, а обувки никакой не имеют, по бедности и зимой ходят босые. Хватит с тебя?
— Я не про то, а спрашиваю, породистые они или нет. В детстве я сам водил голубей, факт. Потому-то мне и интересно знать, какой породы голуби: вертуны или дутыши, а может быть, монахи или чайки. И где ты их достал?
Теперь уже улыбался Размётнов, разглаживая усы:
— С чужого гумна прилетели, стало быть, порода их называется гуменники, а ввиду того, что явились без приглашениев, могут прозываться и так — скажем, «приблудыши» или «чужбинники», потому что на моих кормах живут, а сами себе на пропитание ничего не добывают… Одним словом, можно приписать их к любой породе, какая тебе больше по душе.
— Какой они окраски? — уже серьезно допытывался Давыдов.
— Обыкновенной, голубиной.
— То есть?
— Как спелая слива, когда ее ишо не трогали руками, с подсинькой, с дымком.
— А-а-а, сизари, — разочарованно протянул Давыдов. И тотчас же оживленно потер руки. — Хотя и сизари бывают, братец ты мой, такие, что я те дам! Надо посмотреть. Очень интересно, факт!
— Заходи, поглядишь, гостем будешь!
Через несколько дней после этого разговора Размётнова на улице остановила гурьба ребятишек. Самый смелый из них, держась на почтительном расстоянии, спросил писклявеньким голосишком:
— Дяденька Андрей, это вы заготовляете кошков?
— Что-о-о? — Размётнов угрожающе двинулся на ребят.
Те, словно воробьи, брызнули во все стороны, но через минуту снова сбились в плотную кучку.
— Это кто вам говорил про кошек? — еле сдерживая негодование, настойчиво вопрошал Размётнов.
Но ребята молчали, потупив головы и, как один, изредка переглядываясь, чертили босыми ногами узоры на первой в этом году холодной дорожной пыли.
Наконец отважился тот же мальчишка, который первым задал вопрос. Втягивая голову в щупленькие плечи, он пропищал:
— Маменька говорила, что вы кошков убиваете из оружия.
— Ну, убиваю, но не заготовляю же! Это, брат ты мой, разное дело.
— Она и сказала: «Бьет их наш председатель, как, скажи, на заготовку. Пущай бы и нашего кота убил, а то он гулюшков разоряет».
— Это, сынок, вовсе другое дело! — воскликнул Размётнов, заметно оживившись. — Так, значит, кот ваш разоряет голубей. Ты чей, парень? И как тебя звать!
— Папенька мой Чебаков Ерофей Василич, а меня зовут Тимошка.
— Ну, веди меня, Тимофейчик, к себе домой. Зараз мы твоему коту наведем решку, тем более что маманька твоя сама этого желает.
Благородное начинание, предпринятое во имя спасения чебаковских голубей, не принесло Размётнову ни успеха, ни дополнительной славы. Скорее даже наоборот… Сопровождаемый щебечущей на разные голоса стаей ребятишек, Размётнов не спеша шел к двору Ерофея Чебакова, совсем не предполагая того, что там ожидает его крупная неприятность. Едва он показался из-за угла переулка, осторожно шаркая подошвами сапог и все время опасаясь, как бы не наступить на чью-нибудь босую ножонку вертевшихся вокруг него провожатых, как на крыльцо чебаковского дома вышла старуха, мать Ерофея.
Рослая, дородная, величественная с виду старуха стояла на крыльце, грозно хмурясь и прижимая к груди огромного, разъевшегося на вольных харчах рыжего кота.
— Здорово, бабка! — из уважения к возрасту старой хозяйки любезно приветствовал ее Размётнов и слегка коснулся пальцами серой папахи.
— Слава богу. Чего пожаловал, хуторской атаман? Хвались, — басом отвечала ему старуха.
— Да вот насчет кота пришел. Ребята говорят, будто он голубей разоряет. Давай-ка его сюда, я ему зараз же трибунал устрою. Так ему, злодею, и запишем: «Приговор окончательный и обжалованию не подлежит».
— Это по какому же такому праву? Закон такой вышел от Советской власти, чтобы котов сничтожать?
Размётнов улыбнулся:
— А на шута тебе закон сдался? Раз кот разбойничает, раз он бандит и разоритель разных пташек — к высшей мере его, вот и весь разговор! К бандитам у нас один закон: «руководствуясь революционным правосознанием» — и баста! Ну, тут нечего долго волынку тянуть, давай-ка, бабка, твоего кота, я с ним коротенько потолкую…
— А мышей у нас в амбаре кто будет ловить? Может, ты наймешься к нам на эту должность?
— У меня своя должность имеется, а вот ты и займись от безделья мышками, заместо того чтобы без толку богу молиться да спину гнуть возле икон.
— Молод ты мне указывать! — загремела старуха. — И как это наши казаки могли такого паршивца в председатели выбрать! Да ты знаешь, что со мной в старое время ни один хуторской атаман не мог сговорить и справиться?! А тебя-то я со своего база выставлю так, что ты только на проулке опомнишься!
На зычный голос старухи из-под амбара выскочил пегий щенок, залился звонким, режущим уши лаем. Размётнов, стоя возле крыльца, спокойно свертывал папиросу. Судя по размерам ее, он не собирался вскоре очистить занятую им позицию. Длиною в добрую четверть и толщиною с указательный палец папироса предназначалась для обстоятельного разговора. Но не так сложилось дело…
Спокойно и рассудительно Размётнов