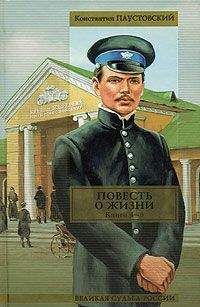мое счастье, наискосок от дома, где она жила у своей бабушки, — старый такой дом с садом и крыжовником, — так вот чуть наискосок стоял трактир. Небогатый такой трактир, маленький, даже без канареечного пения. Засел я в этом трактире крепко. Придумал историю, что договорился с товарищем гусей в Симбирске покупать, а товарищ запоздал, не едет. Вот и сижу, скучаю здесь, дожидаюсь. Того не сообразил, что гусей скупают по осени, а не летом.
— Ну и что ж, видел ее? — спросил я.
— Видел. Два раза. Прошла она сквозь душу и все начисто с собой унесла. Ничего я тогда не соображал. Одно только и знал, что радовался. Она, конечно, ничего не подозревала, да и забыла, должно быть, про меня, — человек я на вид неприятный, сам знаю — зубы как у хорька, а глаза мышиные. И всё бегают, проклятые. Вырвал бы я их к чертям! Красоту не наживешь и не уворуешь, как ни старайся.
Петлюровский пулемет дал с опушки леса короткую скучную очередь и заглох.
— Чепуха это все, — сказал шустрый. — И гетман и петлюровцы. И вся эта заваруха, это трепыхание. На кой черт все это делается, не пойму. Да и охоты нет понимать.
Он замолчал.
— Ну что ж ты, — сказал я. — Начал рассказывать и бросил.
— Нет, я не бросил. Прожил я в Симбирске всего десять дней, а потом хозяин трактира — больной был человек, хороший — подозвал меня как-то и говорит шепотком: «Тут сыщики, в общем лягаши, об тебе спрашивали. Смотри, парень, как бы не схватили тебя сегодня. Ты вор?» — «Нет, говорю, я не вор и никогда им не был, кабы не любовь к женщине». — «Суд любовь к женщине в расчет не берет. Не юридическая величина. Ты сюда больше не ходи. Остерегайся». А я решил — нет, в тюрьму я не сяду. Мне нужна сейчас вольная воля, чтобы ее не потерять, эту женщину. Надо завертеться, запутать свои следы.
Уехал я в тот же день в Сызрань, чтобы отсидеться, а там меня на третий день и взяли, как сопливого урку. Судить повезли на пароходе в Самару. Двое конвойных при мне. Подходим к Симбирску. Я глянул из окошка, а с реки видно тот дом и сад, где она живет. Прошу конвойных: «Сведите меня в буфет в третьем классе, я второй день не евши». Ну, сжалились, конечно, повели. Я тихо заказал буфетчице стакан водки. Она мне налила. Я разом выпил, а потом раздавил стакан вот в этой руке и осколками начал все лицо себе резать, драть. Будто умылся теми кровавыми стеклами. От невыносимой тоски. Кровью всю стойку залил. С тех пор и шрамы остались на морде, прибавилось красоты.
— Ну, а потом? — спросил я.
Шустрый посмотрел на меня, длинно сплюнул и ответил:
— Будто не знаешь. Потом — борщ с дерьмом. Давай пачку «Сальве», а то возьму тебя за шейную жилу — у меня хватка верная — не успеешь и дернуться. Я тебе наврал, фрайер. А ты враз и рассопливился.
Я дал ему пачку папирос «Сальве».
— Ну все! — сказал он, встал и медленно пошел вдоль окопа. — А проговоришься шпане хоть сейчас, хоть через тридцать лет — пришью беспощадно. Стихи небось соображаешь: «Ах, любовь, это сон упоительный».
Я не мог понять этой внезапной злобы и смотрел ему в спину.
В рассветной мути со стороны Киева возник воющий свист снаряда. Мне показалось, что снаряд идет прямо на нас. И я не ошибся.
Снаряд ударил в бруствер, взорвался с таким звуком, будто воздух вокруг лопнул, как пустой чугунный шар. Осколки просвистели стаей стрижей. Шустрый удивленно повернулся, ткнулся лицом в стенку окопа, выплюнул с кровью последнюю матерщину и сполз в глинистую лужу, перемешанную со снегом. По снегу начало расплываться багровое пятно.
Второй снаряд ударил около «лисьей норы». Из блиндажа выскочил «пан сотник». Третий снаряд снова попал в бруствер.
— Свои! — закричал рыдающим голосом «пан сотник» и погрозил в сторону Киева. — Свои обстреливают! Идиоты! Рвань! В кого стреляете? В своих стреляете, халявы!
«Пан сотник» повернулся к нам:
— Отходить на Приорку. Живо! Без паники! К чертовой матери вашего гетмана.
Перебежками, ложась каждый раз, когда нарастал свист снаряда, мы спустились на Приорку. Первыми, конечно, бежали «моторные хлопцы».
Оказалось, что гетманская артиллерия решила, будто наши окопы уже заняты петлюровцами, и открыла по ним сосредоточенный огонь.
Выходя из окопа, «пан сотник» переступил через шустрого и, не оборачиваясь, сказал мне:
— Документы на всякий случай возьмите. Может, найдутся родные. Все-таки был человек, не собака.
Шустрый лежал вниз лицом. Я перевернул его на спину. Он был еще теплый и, несмотря на худобу, тяжелый. Осколок попал ему в шею. Вытатуированные на ладони синие женские губы, сложенные бантиком, были измазаны кровью.
Я расстегнул на шустром голубую австрийскую шинель и вытащил из кармана гимнастерки потертое, очевидно, фальшивое удостоверение и пустой конверт с адресом: «Симбирск, Садовая улица, 13. Елизавете Тенишевой».
Потрепанные и поредевшие гетманские части начали стягиваться на засыпанную трухой от соломы площадь среди Приорки.
Жители Приорки высыпали на улицы и с нескрываемым злорадством обсуждали отход сердюков.
Но, несмотря ни на что, по городу спокойно разъезжали на сытых гнедых лошадях отряды немецких кавалеристов. Гетман или Петлюра — немцам было все равно. Прежде всего должен соблюдаться порядок.
На Приорской площади мы по приказу «пана сотника» свалили в кучу винтовки и патроны. Немцы тотчас подъехали к этому оружию и начали его невозмутимо охранять. На нас они даже не посмотрели.
— А теперь — по домам! — сказал «пан сотник», отцепил и бросил на мостовую свои желто-голубые погоны. — Кто как может. По способностям. В городе кавардак. По одним улицам валят петлюровцы, по соседним отступают гетманцы. Поэтому, переходя перекресток, посмотрите сначала налево, а потом направо. Желаю здравствовать.
Он натянуто улыбнулся своей неудачной шутке, помахал нам по-штатски рукой и торопливо ушел, не оглядываясь.
Некоторые сердюки тут же на площади сбрасывали с себя шинели, продавали их за гроши приорским жителям или отдавали даром и уходили в одних гимнастерках без погон.
Мне было холодно, и я шинели не снял, только оторвал с мясом погоны. Вата вылезала из дыр от оторванных погон, и по этому одному признаку можно было легко догадаться, кто я такой.
Я дошел до Кирилловской больницы, где был когда-то давным-давно с отцом и Врубелем. В то время все эти места около больницы, глубокие овраги, заросшие боярышником, и узловатые вязы казались мне таинственными и зловещими. Сейчас я медленно и тяжело поднимался по крутому и пыльному шоссе на Лукьяновку, и у меня не было ощущения не только необыкновенности этих мест, но даже самого времени. Должно быть, от усталости.
Я сознавал, конечно, что время легендарное, почти фантастическое, иной раз похожее на бред или чрезмерный