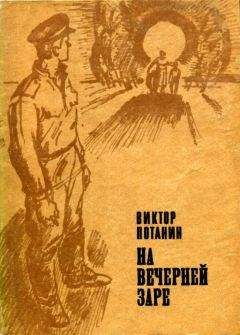— Он ведь с Мишкой у нас с пяти лет. Как близнята, рядком ходили, дружили. А тут у Михи авария сделалась: «Беларусь» опрокинулся, гололед... Опрокинулся, слышь, не послушался. Ну, Миху-то самого кабиной помяло — еле берегу не хватил. А ты ешь, ешь, че не ешь?... — Она стала подсовывать мне пирожки и калачик, но ничего не шло в горло, прямо откинуло от еды. Да и она опять напугала.
— Вот мы сидим тут, базарим, а братко, поди, умирает.
— Как?
— А вот так! — Она смотрела на меня большими глазами, а в зрачках все выгорело, пустота.
— Нет уж, ему больше не встать... — Она сжала губы до синевы. — Нет уж, не встать ему...
И после этих слов в меня будто громом ударило. И долго-долго не возвращалось ко мне сознание. Потому и запомнил ее дальнейший рассказ какими-то клочками, обрывками. И вот теперь соединяю их вместе, сшиваю, но соединить все равно не могу — они рвутся снова, не слушаются. Помню только, что слова ее лились не спеша, потихоньку. И еще помню ее узкую сухую ладонь. Она то за висок держалась, то поправляла волосы, а кудряшки все равно падали вниз, не слушались. И голос то приближался, то отдалялся. Так шумит часто дождь за окном, то затихая, то набирая силу, то опять затихая.
— Привезли его тогда в медпункт, а тот на замке. Миху дальше по улице, в сельсовет занесли. Там и телефон, и машина нашлася. На ней и сгоняли в районну больницу и привезли троих докторов. Два мужика, а с ними девчонка. Она, значит, по уколам у них, с чемоданчиком. А что уколы — Миха совсем ослабел. Тут надо кровь вливать, надо донора. А Слава-то уже возле Михи. У него же каникулы. Ну что? Дальше надо рассказывать? — Вроде бы так она спросила. А может, не так. За точность слов не ручаюсь. Но когда я очнулся, пришел в себя, она уже опять о Славке говорила, только о нем.
— И сказал братан докторам: «Я ведь давно донорством занимаюсь, и у меня такая же группа крови». Так и сказал. А потом красну книжку вынул — они и вовсе уверились. И положили его рядом с Мишкой И давай кровь у него перекачивать. Вот оно как. А меня саму из комнатки выгнали: иди, мол, домой, Галина Петровна, мы уж сейчас без тебя... И запомни: твой брат, как герой. Так и сказали, герой, мол, спаситель. Я и сама знаю без лишних слов: он ведь на глазах у меня поднимался. Я, значит, старшая, а Слава помладше на восемь лет. Трудно жили мы, ох, тяжело. Отец у нас с войны не пришел, и у меня замужество не сложилось. Муженек бросил меня с троими, а сам, подлый, удрал на Север или в Якутск...
— Это одно и то же, — перебил я ее, желая узнать поскорее о Славке, но она точно оттягивала свое последнее сообщение. И вот опять поднялся ее голосок:
— Знаю, что одно и то же. Да мне-то не легче. Тому, значит, севера да поездки, а семья погибай. Да и братана надо было собирать на учебу, а это же тяжело. Сколько денег надо на ваш институт, не знаешь? Ну и я не знаю, а костюмишко-то все равно надо. Надо. Пальто с шапкой надо. А ботинки с пимами надо — вот и посчитай. А мамушка-то наша пластом лежит, отнялись обе ноженьки. С возу падала два года назад. Поясницу отшибла — вот и беда. Да еще бруцулез признали. Даже до горшка таскали на руках, а у меня еще трое маленьких — это надо понять. Одна надежда на Славу... — Моя гостья заморгала быстро-быстро, потом сжала глаза, отвернулась. И сразу плечи дернулись, запошатывались, и вдруг остановились на месте — не шелохнутся. Она, видно, сдержала себя, не дала волю слезам. Заговорила снова, и даже голос теперь переменился — стал громче, уверенней: — Вот на него и надеемся, а Слава, видно, на нас. — Она рассмеялась, пригладила медленно волосы. Так же медленно заговорила, старательно разделяя слова: — Он у нас все время в колхозе — и на пашне, и на покосах. А зимой скотника подменял. Придет из школы, портфель в угол, а сам — на ферму. И какой рубль набежит — племяшам своим тащит, ребятишкам моим. Он и кровь свою сдавать начал — все же приработок...
— Он и здесь сдавал, — сказал я тихо, как будто бы про себя. Но она сразу услышала.
— Во, во! Все время сдавал. Даже от стипендии племяшам делал подарки. А тут приехал недавно, говорит: на каникулы. Но каки же каникулы! Нанялся в школу дрова колоть. Сам знаешь, как в школах с дровами. Их бы летом заготовить да подсушить, но летом дали немного, а остальное все оттягивали. Вот и привезли недавно сырье да все комли, отломыши. Братан исколол три машины, а потом беда с Михой случилась, и он отдал другу кровь. Отдать-то отдал, да, видно, ослаб. Надо бы отдохнуть маленько да полежать, а он опять в школу пошел да опять за дрова. Тут его и накрыло. Полагаю, что продуло, не поберегся. Да опять же — надсада. У него и сделалось воспаление легких. Вот так — температура да жар. И дыханья нет, прямо захлебывается. Отправили в город, он же здесь прописан, вот и сюда... Здесь, видно, и оздоровет. Или помрет. — Она сказала это спокойно, легко, не придавая никакого значения словам. А потом дотронулась рукой до меня, по плечу провела. — Я уж была у него раз, а сегодня — второй... А ты-то ходил?
Я что-то промычал, что не знал, мол, не слышал...
— Ну не был, так сходишь, — успокоила она меня и начала собираться. Я не помню, как она одевалась, как говорила, что-то наказывала. Я не помню, как закрывал дверь за ней, как прощался...
А на другой день после лекций я сидел уже у Славки в больничной палате. Он был бледный и исхудал. Особенно лицо. Оно было прозрачное все, синеватое. Такого же цвета было молоко — те замороженные кружочки, которые принесла мне вчера Галина Петровна. Но Славка храбрился.
— Ну здорово, старичок? Какие принес новости? — Губы у него растянулись в улыбке, а переносица запала так глубоко, как будто там образовалась бездонная ямка. Он опять заговорил:
— Без новостей, значит? Нехорошо... А я вот утром подряд три стакана чаю выпил, а потом еще попросил... — Он засмеялся громким здоровым смехом. На него сразу засмотрел сердито старик с соседней кровати: зачем, мол, так, ты же в больнице... Славка замолчал и подтянул одеяло до самого подбородка. И в этот миг я достал свои гостинцы — большой кулек с пряниками к халвой. Славка недовольно поморщился.
— Унеси, старичок, обратно. Сладкого мне нельзя. Разъедает бронхи. Так что возьми... — Когда он передавал кулек, руки у него задрожали, и губы тоже дрогнули нехорошо. А лицо еще сильней побледнело. Не лицо — белый мел. Белый мел... «Боже мой! — пронеслось у меня в голове. — Человек рожден для счастья. Но только для счастья ли? За что ему эти мучения?»
— Говорят, ты спас человека?
У него взметнулись ресницы.
— Я никого не спасал. Михаила врачи спасали. — Он улыбнулся грустно, с каким-то значением. Потом улыбка ушла, но тоска во взгляде осталась. И тогда я решил его ободрить и подсел поближе к кровати.
— Утром видел твою Наташу, к тебе собирается... — соврал я и весь сжался от стыда, покраснел, но он, кажется, не заметил моего состояния.
— Что, с Соловьевым поссорилась? — усмехнулся он и отвернулся к стене. Потом снова заговорил:
— А ты меня не успокаивай. Мне здесь и так спокойно. Вон даже птички чирикают. — Он показал рукой на окно.
— Не переживай. Наташа грустная ходит... — В моем голосе стояло волнение. Я это чувствовал. Было стыдно, что сочиняю, придумываю...
— Она походит, старичок, побродит да и замуж выйдет.
— Вот за тебя и выйдет... — улыбнулся я и похлопал ладонью по краю одеяла. — Все бывает.
— Нет, не бывает! — Славка решительно приподнял голову, подложил под спину подушку, потом опять медленно, с тяжелым усилием повернул голову обратно к стене, точно голова налилась тяжестью, невыносимой тяжестью. Потом опять повторил:
— Нет, не бывает... Ты вот скажи мне, почему первая любовь никогда не сбывается? Ну почему?.. Почему любишь девушку, а она — бах! — и за другого выскочит. Будет убеждать, что ты хороший, добрый, единственный, а сама — за другого...
— Славка, не сочиняй.
— Ладно, переключим пластинку. Давай лучше договоримся: ты приедешь ко мне летом в деревню. И мы пойдем купаться на озеро. Ох и озеро — ты увидишь! Голубая жемчужина... Вот лежу тут, не спится, а оно все в глазах. Понимаешь, в глазах? И до того хорошо станет — прямо в горле перехватит... — В это время я перебил его. Никогда не прощу себе, но тогда разозлился. Я ему про Наташу, а он только — озеро, озеро... И я не вынес:
— Хватит, Славка. Мы уж об этом слышали. Давай что-нибудь поновее. — Так и сказал я, и он сразу обиделся.
— Ну, если хватит, тогда прощай. У нас подолгу не сидят. Не положено.
— Но почему прощай?
— Да я, знаешь... — Он немного помолчал, потом сказал почти шепотом: — Я перехожу на заочное.
— Почему?!
— А потому, старичок, потому. У меня с матерью плохо. Ходить за ней надо, а у сестры-то — своя орава. Не успевает. Трое ребятишек у ней, а последний еще с соской гуляет. Так что... — Он улыбнулся и опять подложил под спину подушку. Глаза у него блестели, а щеки запали. Кожа на них была синеватая, слабая, и я снова вспомнил про то молоко в кружочках.