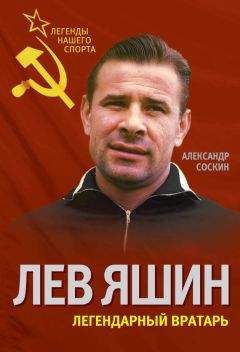От сердца пошел огонь по всему телу — к мускулам рук, ног, я напрягся и, видимо, шевельнулся. В тот же миг орел круто взмыл вверх и с недоуменным клекотом полетел в сторону синих скал.
— Так-то лучше! — сказал я вслух и еще долго-долго лежал не двигаясь под ясным высоким небом.
Мы нередко говорим: играет, как кошка с мышью. Сегодня ночью я видел, что это такое.
Я живу в деревне у одинокой женщины, моей родственницы, в большой чистой избе, устланной домоткаными половиками, увешанной рукотерниками и плакатами. Воздух в избе чистый, клопов сравнительно немного, питание здоровое: ягоды, грибы, капуста…
Но больше всего меня устраивает, что старушка моя рано ложится спать и, перед тем как лечь, наливает для меня полную лампу керосину и старательно чистит стекло скомканной газетой.
Ночью я люблю сидеть один — читать, думать, писать — в совершеннейшей тишине. Гудит в трубе тепло, суматошится метель под окном, и серая молодая кошка мурлычет рядом. Я не терплю кошек за их высокомерие и эгоизм. Говорят, собака привыкает к хозяину, а кошка к дому. По-моему, ни к чему она по-настоящему не привыкает и ни на одну кошку никогда нельзя положиться. Но эту, молодую, серую, я почему-то полюбил.
Сегодня в полночь кошка неожиданно подняла возню, начала мяукать, и я увидел, что она вынесла иа середину избы живую мышь. Мышка была еще не измятая, совсем свеженькая, пушистая и маленькая, тоньше кошкиной лапы. Поначалу я не почувствовал к ней никакой жалости, а кошку, наоборот, похвалил про себя: дескать, не дармоедка, знает свое дело!
Кошка положила мышь на половик, посреди избы и легла рядом с ней. Мышка припала к полу, вытянув хвостик, и удивленно замерла: ей, наверно, показалось, что она свободна и может убежать, куда хочет. Так и есть: мгновение — и ее не стало.
— Ах, черт! — воскликнул я от огорчения. — Ушла!
Но кошка спружинила, метнулась в задний угол избы, в темноту, успела за мгновение обшарить там своими толстыми лапами весь пол, нашла мышь, — как мне представилось, ощупью, — и уже спокойно, держа ее в зубах, вернулась на середину избы.
— Упустишь, дура! — сказал я.
Кошка положила мышь на прежнее место и снова легла рядом с нею, щурясь и беспрестанно мурлыча. И мышке опять поверилось, что она вольная птица. На этот раз кошка поймала ее у меня в ногах, под столом. В следующий раз — под печкой-лежанкой, затем на кухне. И все это в полумраке, потому что моя керосиновая лампа не освещала всей избы. Половики на полу были смяты, жесткий кошачий хвост, как лисья труба, мелькал то в одном месте, то в другом. Сколько раз я считал, что все кончено, мышь сбежала! "Прозевала-таки, полоротая!" — ворчал я. Но кошка не зевала. И я убедился, что этот зверь знает свое дело.
— Что вы там возитесь? — спросонья спросила хозяйка с печи и, не дождавшись ответа, снова захрапела.
Мышь устала, начала хитрить. Она подолгу не двигалась, вероятно, прикидываясь мертвой. Кошка ложилась на бок, кувыркалась, поднималась на ноги, дугой изгибала спину и легонько, издалека трогала мышь своей страшной лапой, и мурлыкала, и мяукала. Ей хотелось играть. Она требовала, чтобы и мышь играла с нею, не умирала бы раньше времени.
Я осветил их лучиком китайского фонарика и увидел: мышка еще жива, черные глазки ее поблескивают, только она выжидает, ей хочется перехитрить свою смерть. Но, господи, до чего же она была мала рядом с этим страшилищем! И я вдруг, впервые в своей жизни, пожалел мышь, мне даже захотелось, чтобы она сбежала. И, словно почувствовав, что я на ее стороне, мышка кинулась под печку, но кошка, даже не вскочив, накрыла ее своей лапой и вместе с ней игриво перевернулась через спину.
Это продолжалось долго. Долго мышку не оставляла призрачная надежда на свободу. Только покажется ей, что наконец-то она перехитрила своего врага, может вздохнуть, скрыться и располагать собою по своему усмотрению, а кошка опять прижмет ее к полу, к земле. Прижмет и отпустит. Отпустит и отвернется, делая вид, что ей все безразлично. И мяучит требовательно, недовольно: "Да беги же снова, играй со мной!" Не мурлычет, а мяучит.
Хозяйка с печи опять подала голос:
— Кошка-то, видно, на улицу просится, выпусти!
— Нет, она мышь поймала, играет! — ответил я.
— У, тигра окаянная! Живодер! — с ненавистью сказала хозяйка.
Наконец и я ощутил ненависть к кошке.
Я направил узкий электрический луч прямо в ее бледно-зеленые с серым дымком глаза, когда она, валяясь на спине, жонглировала мышью, как фокусник мячиком, и ослепил ее.
Воспользовавшись этим, мышь сделала последнюю попытку уйти в свое подполье. Но у "тигры" кроме зрения был еще звериный слух.
— У, подлая! — с откровенной ненавистью зашипел я. — Поймала-таки опять! Кровопийца! — И я готов был пнуть ее, потому что вся моя застарелая неприязнь к кошачьей породе поднялась во мне.
Мышь больше не подавала признаков жизни. Кошка мяукала с недоумением, обиженно и гневно толкала ее то левой, то правой лапой, словно бы отступалась от нее, отходила в сторону — мышь не двигалась и лежала либо на боку, либо на спине, задрав кверху голенькие, тонкие, как спички, ножки.
Тогда кошка съела ее. Ела она неторопливо, лениво, щуря глаза и чавкая. Похоже было, что ест без удовольствия, ест и брезгует. Мышиный хвостик долго торчал из ее рта, словно кошка раздумывала: глотать ей эту бечевку или выплюнуть ее. Под конец она проглотила и хвостик.
Хозяйка моя свесила ноги с печи.
— Ты что, полуношник, сегодня долго не спишь?
— Смотрел, как кошка с мышью играла, — ответил я.
— Ой, паре! — охает хозяйка, должно быть, удивляясь моей несерьезности.
— Что — "ой, паре"?
— Ну-ко, надо!
— Что — "ну-ко, надо"?
Хозяйка задумывается и наконец, что-то обмозговав, произносит:
— Тигра — она тигра и есть! У нее свое дело, а у тебя свое. Спи давай!
— Ладно! Давай буду спать.
Я ложусь и засыпаю тревожным тоскливым сном.
— Опять каша!
Борька сидел с полным ртом, сопел, дулся и смотрел на всех сердитыми глазами. Его уговаривали, ругали, пытались задобрить. Но ничего не помогло. Обеденных часов в семье стали бояться, как наказания. Мать нервничала, отец рывком вставал и уходил из-за стола.
Горю помог соседский мальчик Ваня. Как-то во время еды, когда за столом не усидела даже многотерпеливая мать, Ваня сказал Борьке:
— Я тоже не люблю кашу, но это ничего. Я тебя научу, будет интересно… Давай делать дорогу!
Борька посмотрел на товарища сквозь слезы, подумал и кивнул головой. Тогда Ваня устроился с ним рядом, пододвинул к себе тарелку, взял ложку из его рук.
— Сначала сделаем тропинку для велосипеда, вот так! — сказал он, провел узкую бороздку через всю тарелку и ложку, полную каши, передал Борьке. — Пройдет велосипед?
Борька хмыкнул, но спорить не стал.
— Пройдет. А кашу куда?
Ваня пожал плечами.
Тогда Борька съел кашу и облизал ложку. А Ваня сказал:
— Сейчас сделаем дорогу такую, чтобы по ней можно было проехать на машине. Делай сам!
Борька взял ложку в обе руки и со скрежетом заскреб дно тарелки. Дорога получилась широкая, но неровная.
— Подчисти! — посоветовал Ваня.
Борька подчистил, склоняя голову набок.
— Сейчас и "москвич" пройдет, — убежденно сказал он.
— "Москвич", пожалуй, пройдет, а "Волга"?.. Давай для "Волги"!
Игра Борьке понравилась. Он ел кашу старательно, с удовольствием.
— Это уже большак, — сказал Ваня, когда посреди тарелки, на проезжей ее части, показался зеленый цветок. — Теперь даже грузовики с зубром и медведем могут разойтись.
Борька подровнял ложкой края большака справа и слева, набрал еще ложку каши и, прожевывая, подтвердил:
— Разойдутся и медведь с зубром.
Наконец каши осталось совсем мало. Ваня нерешительно посмотрел на Борьку.
— Что будем делать с обочинами? — спросил он.
А Борька уже улыбался весело и хитро. Теперь-то он знал, что надо делать с обочинами. Каша перестала казаться скучной.
— Съем и обочины! — сияя от радости, заявил он. — И будет у меня теперь не дорога, а аэродром. Реактивный, верно? Нет, ракетный!
— Вот так! — засмеялся довольный собою Ваня.
И было им хорошо друг с другом.
Все дети были как дети, один Михал Михалыч никому покоя не давал. С утра до вечера в квартире слышался только его голос, его крики, его песни. Начиналось с завтрака на кухне, куда Михал Михалыч обычно шел неохотно, ссылаясь на то, что у него еще зубы заспанные, но когда садился за стол, то требовал все сразу — и молоко, и рыбий жир, и огурцы, и кашу. Потом он бросался к сестрам, помогал им собраться в школу, из-за чего те плакали и нередко опаздывали на первый урок. Далее Михал Михалыч делал зарядку, "как в цирке", карабкался до потолка по книжным полкам, пересматривал все подряд, вплоть до энциклопедии, гонялся за кошкой, кричал ей "кыкысь, берегись!", наконец, давал матери советы, как варить кашу, и обязательно что-нибудь присаливал сам, да еще прибавлял газу. Все это он успевал делать одновременно, уследить за ним не было никакой возможности. Если мать начинала нервничать, он ее успокаивал: