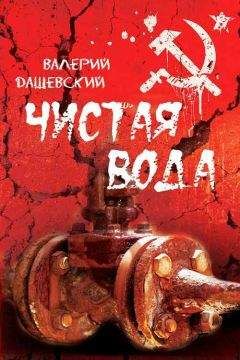Ознакомительная версия.
Потом мы пили чай на кухне, Борька расхаживал из угла в угол и рассказывал, о чем еще он собирается написать, а мы с Валей слушали, прижавшись друг к другу, а после лежали, обнявшись, в темноте и прислушивались к его шагам, доносившимся из кухни. Ровный серебристый прямоугольник света лежал на полу возле нашей кровати, и я думал о том, что рано или поздно Борька уедет и мы останемся одни.
А на следующий день я уже не вспоминал об этом, потому что в четыре часа ко мне на станцию приехали Пахомов и Майстренко.
Пахомов спросил:
— Ну что, ты готов? — И постучал костяшками пальцев по столу.
Они ушли. Я скомкал вырванные из блокнота листы и откинулся на спинку стула; блаженная истома овладела мной; томительная и сладостная, она была сродни той, какую испытываешь, когда вскочишь с постели в семь утра и вдруг вспомнишь, что сегодня суббота. И, значит, можно снова растянуться на смятых простынях и погрузиться в сон, как в теплую, ласкающую воду.
Я спрятал в карман пиджака скомканные листы, на которых несколько минут назад рисовал схемы, и вышел в машинный зал попрощаться с машинистами. Мысленно я распрощался со всем, что окружало меня: с насосами, крутившимися, вертевшимися и пыхтевшими на сорокаметровой глубине, с насосами № 1 и 4, разгонявшими воду по тысячедвухсотмиллиметровым трубам, с расходомерами — щелк-пощелк! — отсчитывавшими каждый кубометр воды, со станционным двором, над которым редеющее марево повисло совсем как над дорогой, упершейся летним полднем в самый горизонт.
Пожелав машинисту Черенковой спокойного дежурства, я отправился в трест, по дороге обдумывая, что буду говорить в министерстве, когда попрошу перераспределить меня на другую работу. Я решил дождаться пятницы, а в пятницу подать Пахомову заявление с просьбой предоставить мне с понедельника трехдневный отпуск за свой счет. Не решил я только, говорить ли Пахомову, зачем мне эти самые три дня. «Скажу! — подумал я. — И пусть попробует меня не отпустить!»
Погода была такая, будто земля крутилась в полтора раза быстрей и на дворе июнь вместо марта. И хотя на небе не сыскать было ни единого облачка, я поклясться был готов, что к вечеру пойдет дождь, такая стояла духота.
Веру Ивановну я встретил в вестибюле треста.
— Тебя можно поздравить, — сказала она, беря меня под руку.
— Поздравить? — переспросил я, полагая, что она имеет в виду мои успехи в изучении электрооборудования.
Она с заговорщическим видом оглядела вестибюль; ее прямо-таки распирало от радости.
— Завтра вам вручат знамя, — зашептала она, и я почувствовал ее дыхание на своей щеке. — Возьмешь Бородину и Романенко. И приготовься сказать что-нибудь на собрании, а то будешь стоять как засватанный, — произнесла она наставительно.
— А… Да-да, — сказал я, вспомнив, что в пятницу решил подать заявление Пахомову.
— Ты что, не рад? — возмутилась она.
— Рад, — сказал я. — Вам показалось.
Я высвободил локоть из ее цепких пальцев и уже собирался подняться наверх в приемную Мирояна, когда знакомый голос сказал у меня за спиной: «Привет, начальник!» Я обернулся. Передо мной стоял Гена Алябьев. Мы не виделись с тех самых пор, когда мастер Великий вложил ума в расходомеры, а вслед за этим Пахомов вложил ума самому Гене. И, глядя на Гену, я почувствовал себя неловко, словно он что-то стянул у меня и мы оба об этом знаем.
— Помиритесь, мальчики, — задушевно сказала Вера Ивановна и положила руку мне на плечо.
— Да мы и не ссорились, — сказал Гена. — Мы лучшие друзья.
Он стоял передо мной — невысокий сутулый парень с нездоровым цветом лица, с большими залысинами надо лбом, на которые он начесывал волосы белой пластмассовой расческой, вечно торчавшей из нагрудного кармана его пиджака; я видел жесткий блеск в его глазах и никак не мог взять в толк, что он означает.
— Если ты наверх, ее там нет. Ушла минут пятнадцать назад, — сказал Гена. — Скорее всего, к тебе на станцию.
— Спасибо, — сказал я.
— Я ему так и сказал, — продолжал Гена, — «Ищи ее у начальника шестой станции».
— Кому сказал? — Я не поверил своим ушам.
— Мужу, — сказал Гена. — Он приехал за ней на машине, только она вышла. Он…
Я не дослушал. Стеклянные двери треста, а за ними ровная, круто вверх идущая асфальтовая дорога, ею я только что спускался вниз, а вот теперь мчался назад мимо почты, магазина, мимо облупившихся фасадов одноэтажных домов, вдоль гаражей и сараев, сложенных из ноздреватых глыб ракушечника. Прошло время, и я перешел на шаг, не обращая внимания на пот, заливавший глаза, и прислушиваясь к гулким ударам сердца в висках или в затылке, не разберешь где. Я ждал, пока дыхание восстановится, и постепенно ускорял шаги, думая: «Машина. Но он не знает город. Не знает город». И снова бежал, сперва не быстро, потому что дыхание занималось и кололо в боку, а после — я и сам не знал, сколько поворотов дороги осталось позади, — пришло облегчение, и я снова мог бежать быстрее. Минуя базар, я пробежал по мосту и пошел шагом вдоль забора. Я думал: «Значит, его еще нет. Значит, не нашел станцию». На ходу я расстегнул и снял плащ. Дышать я старался как можно глубже, ровнее. А войдя во двор, остановился, потому что увидел новехонькие, красные, как пожарная машина, «Жигули» прямо посреди двора.
Я огляделся и, убедившись, что кругом нет ни души, подошел к машине.
Я подумал, что разумнее будет не идти в станцию, где нас всех троих увидят машинисты, а объясниться здесь, с глазу на глаз. Передние дверцы машины были распахнуты настежь, мотор включен, из чего я заключил, что Толик не собирается задерживаться на долго. Я повесил плащ на дверцу машины, закурил. Последнее, что я успел подумать, было: «Смотри-ка, мы оба оказались правы!» — потому что из-за угла жилого дома показались оба — упиравшаяся Валя и высокий парень, без белой лошади, но в белом плаще. Он тащил ее за руку к машине. Я не видел его лица, только спину, обтянутую плащом. Валиного лица я тоже не видел, потому что разметавшиеся волосы закрыли его. Она упиралась изо всех сил, повторяя: «Не хочу! Не… хочу!» Парень рассмеялся коротко и хрипло. Дождавшись, когда они приблизились ко мне, я сказал:
— Ну-ка отпусти ее, ты, мичман Панин!
Валя вырвалась, и он обернулся. В жизни моей я не видел такого красивого парни. Он отбросил волосы со лба, сказал:
— Так это ты и есть? Ну, здравствуй! — И в следующее мгновенье ослепительный, оглушительный, ошеломляющий удар в лицо отшвырнул меня от машины. Я сделал несколько шагов назад, пытаясь устоять на ногах. Я видел, как Валя повисла на нем, удерживая его; он повел рукой, и она отлетела в сторону. И только тут я почувствовал крошки во рту, будто откусил кусок мела. Я опустил глаза и увидел кровь, капавшую изо рта мне на грудь. И ткань рубашки впитывала ее, как промокашка — красные чернила.
Я плохо помню, как мы дрались. Помню, как он сбил меня с ног, как я откатился и вскочил, и мы снова стали друг против друга. Помню, как он ударил меня в голову, как я уклонился, схватил его за шиворот и тряхнул головой об машину прежде, чем он вырвался. Потом он взялся за горло и отступил. И я почувствовал, что поднимаю руку из последних сил. Я. ударил его по печени раз, потом еще раз, потом ударил в лицо и снова ударил по печени. Он согнулся пополам, привалился к машине, и я увидел клейкую нитку слюны, потянувшуюся у него изо рта.
И тут это началось: Валя сорвалась с места, оттолкнула меня и подхватила Толика, не дав ему упасть. Она что-то кричала, но я не разбирал слов, покуда не понял, что она выкрикивает:
— Зверь! Зверь! Зверь!
Я стоял, шатаясь в этом вихре презрения, читая слова у нее по губам и медленно понимая, что она кричит это мне. Ощущение было такое, будто я вышел из самого себя и смотрю со стороны, как я стою и шатаюсь с расквашенной мордой и ободранными кулаками. Я стоял в стороне и в самом деле видел это — как я снимаю с дверцы машины плащ, и ноги, шаг за шагом, несут меня к воротам. Они несли меня сами — раз-два, раз-два, — я смотрел и удивлялся, до чего же занятно у меня получается; вот только что я шел по красному кирпичному крошеву, а теперь ступаю в пыль и выбоины засохшей грязи на дороге, вот я спотыкаюсь и плащ падает у меня из рук, я наклоняюсь и подбираю его, а после опираюсь рукой о забор, потому что радужные огни кружатся у меня в голове и последние силы вытекают из меня в долгом приступе тошноты.
Я смотрел и удивлялся самому себе, как это у меня хватает сноровки взобраться в автобус и как это я еще помню, что у меня не хватает денег на такси. Это было чертовски смешно — наблюдать за собой со стороны. Редко кому выпадает такая удача. На меня глазел весь автобус, и одна женщина, взглянув на меня, тихо ахнула. Потом, не сводя с меня глаз, тронула за плечо сидевшего рядом с ней мужчину, тот поднял голову, и у него округлились глаза. Он встал, уступая мне место и одновременно стараясь не измазаться, хотя кровь на рубашке давным-давно засохла, — и это тоже было смешно. В автобусе невыносимо воняло соляркой, и смешно было, что этого не замечают остальные пассажиры, И я подумал: то-то будет смеху, если они, чего доброго, сдадут меня милиции. Я испытывал кроткую радость из-за того, что врожденное чувство юмора не изменяет мне, даже когда я сижу на лестнице между третьим и четвертым этажами и мне кажется, что я никогда не доберусь до пятого, как в детстве казалось, что я никогда не состарюсь.
Ознакомительная версия.