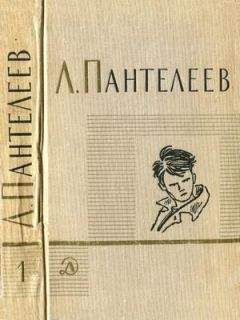– Ты готова, мама? Идем!
– Я тоже! Я тоже! – засуетилась Машка.
– Нет, ты никуда не пойдешь!
– Нет, пойду!..
На своем все-таки настояли.
И все как будто правильно. Проявили настойчивость, твердость. Наказали. Проучили. А меня не оставляет ощущение сделанной ошибки.
Из-за чего, собственно, сыр-бор загорелся? Началось с того, что Машка не хотела есть суп. Вспоминались мне весь вечер ядовитые строчки Ходасевича:
Отец надел котелок и пальто,
Но вернулся, бледный, как труп:
– Сейчас же высечь мальчишку – за то,
Что не любит луковый суп!..
Сегодня с утра Маша послушная, вежливая. И все-таки что то не то. Хотелось бы, чтобы это послушание, эта вежливость достигались другими мерами, другой ценой.
И еще заметил – со мной она говорит подчеркнуто вежливо и почтительно, но играть тянется к матери.
Неудивительно: ведь вчера я весь вечер отталкивал ее от себя.
3 ГОДА 1 МЕСЯЦ
4.9.59.
Сегодня совсем холодно. Утром у папы в комнате плюс десять градусов. Небо серое. Сад опустел, заглох, одичал. Все лето соседей наших мы не видели, а только слышали. А теперь все видно насквозь. Тихо. Отчетливо слышны в этой тишине железный грохот идущего поезда, детские голоса где-то на соседнем дворе, грустноватая песня петуха.
. . . . .
По-прежнему я – Алеша, Элико – Маша. Но появился еще один персонаж: Алешин папа. Папа этот – невидимка (хотя Маша, конечно, его отлично видит. Иногда удается увидеть его и мне).
То и дело Маша кричит:
– Алеша, папа приехал!..
– Где?
– Вот он, в саду идет.
И сразу же:
– Нет, нет, он оплять уехал.
– В Ленинград?
– Да. На поезде уехал.
Образ этого папы, надо сказать, малосимпатичный. Это какой-то папа-дурачок. Он то и дело мотается из Ленинграда в Разлив и обратно. Я спросил у Маши, что он там делает, в Ленинграде.
– Что? Куличики делает.
. . . . .
Говорит не «пять», а «плять», не «опять», а «оплять».
5.9.59.
Унылая холодная осень. Впрочем, сегодня чуть-чуть потеплее и повеселее.
Вчера к вечеру ходили в лес: мама, папа и Маша. Нашли несколько сыроежек и горькушек, один березовик. Сыроежки – старые, трухлявые, березовик на три четверти съеден улитками.
Вот в каких славных местах мы живем уже третий год!..
. . . . .
Сейчас половина двенадцатого. Машка с опозданием отправляется на прогулку. Перед уходом пришла, стучит в дверь.
– Что? Кто там?
– Полуцеваться!!!
Открываю дверь. Она уже в голубом пальтишке, в берете.
– Что? – говорю.
– Полуцеваться хочу.
«Полуцевались». Ушла. Сейчас, в ожидании мамы, играет во дворе.
. . . . .
Только что получили сообщение о смерти Машиной няни – тети Маши. Я подозревал, что ее уже нет, – уезжала она в очень скверном состоянии, ни разу не написала, не поздравила Машу с днем рождения. Оказывается, именно в этот день – 4 августа – она и умерла.
Маша ее очень любила. Но останется ли она в Машкиной памяти? Боюсь, что нет. Может быть, так, что-то смутное, светлое, теплое, шумное и веселое. А может быть, и этих следов не останется в памяти, и только по нашим рассказам будет знать Машка о своей любимой няне.
Ушел из мира очень хороший, чистый и светлый человек.
7.9.59.
Села вчера за свой столик. Видит – на столе одни сухари.
– Мама, а пища где?
Откуда это? Ведь никто так прямо ей не говорит: «Вот тебе пища» и тому подобное. Могли сказать в третьем лице: «Пищи ей хватает» или: «Пища здесь вполне доброкачественная». А ведь услыхала и запомнила.
. . . . .
Во время игры уронила свой голубой шелковый бантик.
Я говорю:
– Что это?
– Бантик зачем-то упал.
. . . . .
Спрашивает у меня:
– Будем еще Тане тимантульку делать?
– Что-о? Какую тимантульку?
Долго не мог понять, что речь идет о температуре. Увидев, что я не понимаю, сама себе перевела:
– Градусник будем Танечке ставить?
. . . . .
Лежала у меня и очень больно цапнула меня за глаз. Пришлось даже примочки делать. Это она, конечно, не нарочно, а играючи, в этаком игровом экстазе. Это не только с человечками, но и со щенками и с медвежатами бывает, – расшалятся, разыграются и вдруг – цап!
9.9.59.
После обеда собрались ехать в Сестрорецк – в аптеку и по другим делам. Но за обедом произошло то же самое, что было на прошлой неделе. В Машку «вселился бес». И я выгонял его, увы, теми же способами. Запоздалых извинений не принял. И больше того – не взял Машку в Сестрорецк, чем наказал не только ее, но и себя, так как очень хотелось с ней поехать.
Ездил один – на велосипеде.
…Когда Минзамал разоблачала ее перед сном, постучали мне в стенку. Таким образом вызывают меня на церемонию вечернего прощания.
Я вышел, ответил на Машкино «спокойной ночи», но не поцеловал ее. Элико рассказывала мне, что Машка явилась к ней с выражением растерянности и даже ужаса на лице:
– Папа меня не полуцевал!
– Вот видишь, – сказала мама.
– Я завтра буду хорошая, – заявила Машка.
Это похоже на концовку нравоучительного рассказа. Будет ли она «хорошей» завтра – не знаю. А вообще-то очень хочу, чтобы она была по-настоящему хорошей.
И все-таки я не уверен, что поступил правильно, когда не поцеловал ее вчера вечером.
Все дело в том (хотел написать: «беда в том», но не знаю, беда ли), что я отношусь к Машке по-настоящему всерьез. Для меня она уже давно, целых три года, – человек. И люблю ее, и жалею, и гневаюсь на нее в полную силу, со всем пылом сердца, на какой способен.
10.9.59.
После ужина играли. Ехали поездом, а потом самолетом в Москву… Папа, как выяснилось, вскочил не на тот поезд…
Впрочем, не папа, а Алеша.
Папа – это совсем другая личность. Это нечто жалкое, комичное, чудаковатое и даже загадочное. Образ его постепенно выкристаллизовывается. Сидим, играем, читаем, обедаем, просто беседуем… И вдруг Машка взглянет в окно и:
– Папа идет!
– Откуда он?
– Пришел он. Вот – уже пришел! На полу сидит.
Папа – маленький, его берут на руки, пересаживают с места на место. Исчезает он столь же молниеносно, как и появляется.
– Уже ушел!
И через полминуты:
– Опять идет!
Подбегает к окну, прижимается лобиком к стеклу, кричит:
– Папа! Ты куда? (Повернувшись.) Галявит: уеду!
И папа опять надолго пропадает.
В самолете, когда мы летим в Москву, он тоже появляется неожиданно как некий бессловесный джинн, вылезший из бутылки. Сидит на полу в уголке, есть не просит, никому не мешает. В общем, личность безобидная. Неприятно только, что зовут его папа.
. . . . .
Утром, когда я завтракал, Машка нарядилась – повязалась маминым шелковым шарфиком. Подошла ко мне.
– Завяжи!
– Как надо сказать?
– Пожалуйста, завяжи.
Повязал ее, как матрешку. Спрашивает:
– У тебя тоже в Ленинграде пальток есть?
– Что-о? Пальток?
Смеется.
– Паль-ток!
– Пальто?
– Нет, вот это.
Тычет себя в темечко.
Я говорю:
– Голова?
– Вот это!
– Ах, волосы?!
– Вот это!!!
– Ах, бантик?
– Паль-то-о-о-ок!..
Подошла к зеркалу, увидела себя в платке, говорит:
– Это тетя Неля.
Потом говорит:
– И тетя Минзамал.
Еще подумала:
– И тетя Ляля. И тетя Нина…
Вспомнила всех, кто носит платки и косынки.
. . . . .
Из Ленинграда я привез на днях книгу «Annabella und Ladislaus». Эта книга была одной из самых любимых у Машки, если не самой любимой. В городе, когда я вернулся из Комарова и с Машкиной помощью устанавливал книги на новых полках, эту книгу мы найти не могли. И вот теперь я нашел и привез ее. Обещаю Машке показать что-то очень интересное. Она ждет с трепетом. На другой день показываю и вижу, что Машка просто не знает этой книги. Смотрит как на что-то новое. Нет, не совсем так. Когда я, ткнув пальцем в румянощекую рожицу куклы Аннабеллы, спрашиваю:
– Кто это?
Она отвечает:
– Ладислаус.
Но в книге все узнаётся заново. Ни разу не было:
– Помню!
Или:
– Помнишь?
Не видела она книги месяцев семь-восемь. А ведь как любила! И сколько десятков раз листала – и со мной, и с мамой – эту пеструю книжицу.
Загадка! Впрочем, ведь и бабушку она тоже, вероятно, не сразу узнает. А разлучились они с бабушкой и с Аннабеллой на равный, пожалуй, срок.
Если меня не обманывают мои наблюдения, зрительная память у ребенка (у Машки, во всяком случае) несколько отстает от слуховой. Слова «Аннабелла», «Ладислаус», «сторож», «Дед Мороз», «фонарь», «кукольный дом», «санки» и прочие она запомнила, а изображения этих людей и предметов – хуже. (Так же, как помнит имена бабушки, Павлика, тети Гетты и так далее, говорит о них и внушает собеседнику впечатление, что она их знает и помнит, а на самом деле только слова помнит. Впрочем, все это, конечно, не абсолютно. Где-то в памяти что-то смутное хранится.)